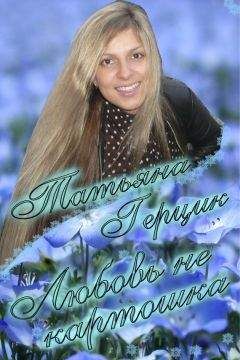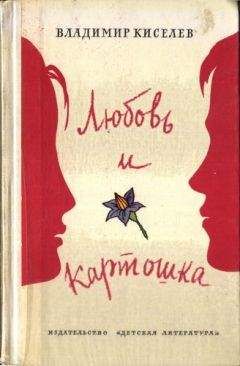Илья Сельвинский - О, юность моя!
Но Леська не обращал на него внимания. Голомб вытащил коробку папирос.
— Фабрика Стомболи, — не без гордости сказал он. — Хотишь?
— Спасибо. Не курю.
— Я плохие папиросы никогда не курю, а только хорошие. Без башмаков ходить буду, но папиросы у меня шобы первый сорт.
Он зачиркал медной зажигалкой.
— Знавал ты такого человека, которому фамилие Груббе?
— Знал. А что с ним?
— Пока ничего. Это мой кореш.
Леська неопределенно пожал плечами. Майор глубоко затянулся.
— А за тебя я знаю чисто все. Во-первых, ты Леська Бредихин. Угадал?
— Да. Бредихин.
— Во-вторых, ты хорошо управился с этой яхтой насчет Ак-Мечети.
— Не понимаю, о чем вы говорите.
— А в-третьих, есть к тебе еще одно поручение. От Груббе, понятно?
— А вы тут при чем?
— А я при том, что Груббе скрывается и требует, шобы я тебя разыскал.
— Видите ли, я действительно знал Груббе, но никаких его поручений никогда не выполнял и вообще не желаю с вами разговаривать на эту тему. Я вас впервые вижу.
— Не трусись, Бредихин. Немцы тебя не трогают и не тронут: ты спас Шокаревых от смерти. У тебя, старик, на минуточку такая марка, вроде как у этих папирос фабрики Стомболи. Шутка сказать: Елисей Бредихин!
— Послушайте, оставьте меня в покое. То, что я, как вы говорите, спас Шокаревых, не имеет никакого отношения к вашему корешу. Никаких его поручений я никогда не выполнял. Да и кто он такой, ваш корешок, чтобы я выполнял его поручения?
— Нехорошо, — вздохнул Майор. — Одно дело — осторожность, другое дело — дреф-манже. И потом, надо же, шобы революционеры друг другу на минуточку доверили, а то шо будет? Вот я, например. Я капитан маккабийцев. Считается, шо я самый ярый сионист. Но это ж только для близиру. С понтом я ничего общего с большевиками. А на самом деле? А на самом деле я такой же герой-подпольщик, как и мой кореш Груббе. Теперь вы можете пойти и донести на меня немецкому патрулю. Но я знаю, шо вы этого не сделаете. Верно я говорю?
— Да.
— Ну, я же что знал. Я же понимаю людей. А теперь вот еще шо вам скажу: помните, вы приехали с покойницей Тиной Капитоновой к штабу Красной гвардии в Армянске? Был там один часовой. Его звали Майор. Так это ж был я во весь рост.
— Чего вы от меня хотите? — глухо спросил Елисей.
— Одно-единственное: шобы вы мне доверяли.
— Хорошо. Я доверяю вам. Что дальше?
— А это уже не вашее дело. Я только должен знать, или вы согласный по-прежнему помогать партии?
— Если это в моих возможностях — конечно.
Капитан маккабийцев встал и перешел с торжественного тона на говорок жителя Пересыпи:
— Так ты правду говоришь, старик, шо ты пришел не до Кати Галкиной?
— Правду.
— Ну, бывай. Мир праху.
Капитан, он же Майор, перешел дорогу, смело открыл калитку домика Галкиных и вошел во двор. Калитка захлопнулась.
Леська был потрясен этим разговором. Новое опасное дело? Не слишком ли много для пего в этом году? Он так устал. Да и болен еще. Контузия — не шутка. А потом еще этот удар сзади по голове. И тут ему вспомнилось, как пилил с ней дрова, как целовал ее вчера у перевернутой лодки, и эти блистающие колени, и белое кружевце из-под вздернутой юбки...
А Васена уже стояла за спиной его скамьи. На ней было белое парусиновое платье.
— Зачем пришел?
— Не знаю.
Она обошла скамью и села рядом. Он взял ее за руку.
— Ни о чем другом не могу думать, — сказал Леська. — Все только о тебе и о тебе.
— Я тоже.
Он обнял ее плечи и положил ладонь другой руки на ее колено. Она все позволяла. Ей было все равно.
— Что же с нами будет? — спросила она. — Чего ты от меня хочешь? Ни жениться, ни любиться. Чем это кончится?
Леська не знал, что ответить.
Из калитки вышла Катя. Она сладко потянулась и весело задекламировала:
Я хочу умереть молодой,
Золотой закатиться звездой...
Тут же раздался баритон Голомба:
Я хочу умереть молодым,
Золотым закатиться звездым...
И вдруг Катя увидела Васену и Леську.
— Вы с ума сошли? — кинулась она к ним. — Ласкаются среди бела дня. Ступай в дом! — строго приказала она Васене. — А вы тоже уходите, молодой человек.
— Уходи, Бредихин, — сказал Голомб. — Не срами девушку. Она еще может выйтить замуж. А насчет того дела, так это будет на днях.
***Утром Голомб уже вертелся на даче Бредихиных и, наконец, вызвал Леську во двор. Лицо его было сурово. Он будто осунулся со вчерашнего дня.
— Айда в сад! — сказал он властно и пошел вперед. Леська за ним. Голомб дошел до яблонь и сел на скамью.
— Не знаю, как тебе сказать... — начал он.
У Леськи упало сердце.
— Что-нибудь случилось?
— Да. Только ты садись. Ну, сядь, не стой, как свечка.
Леська сел.
— Слушай, кто это написал: «Я хочу умереть молодой»?
— Мирра Лохвицкая. А что?
— Поймать бы мне ее. Я бы эту суку...
— В чем дело?
— Васена твоя...
— Ну?
— Утопилась.
— Что ты! Что ты! — Леська схватил Голомба за плечи.
— Ша, ша! Успокой свои нервы, ты же не мальчик.
— Этого не может быть...
— Лежит в комнате на столе. Не знаю, как это у русских, — у евреев нельзя. Там же кушают.
— Не может быть... Господи... Не может быть...
— Сволочь ты, Бредихин. Морду тебе надо набить, Бредихин.
— Пойдемте туда! Скорей! Пойдемте!
— Вчера, когда ты ушел, целый день пела, плакала, читала стих: «Я хочу умереть молодой», а сегодня утром — вот.
Леська без сил опустился на скамью. Плакать он не мог. Он только без конца повторял все одно и то же: «Васена... Боже мой... Васена» — и, тупо глядя на дорожку, подмечал почему-то самые мелкие мелочи: трясогузка перебежала через тропинку, так быстро перебирая ножками, что за ними невозможно было уследить. Потом долго махала длинным хвостиком вверх и вниз. Показалась толстая гусеница, вся унизанная бирюзовыми шариками.
— Боже мой... — шептал Леська в глубоком горе, может быть первом за всю его жизнь, и думал: съест трясогузка гусеницу или не съест? Потом топнул ногой, чтобы трясогузка улетела.
— Тебе надо успокоиться, — сказал Майор, хлопнул Леську по плечу, громко вздохнул и удалился.
Хороший парень... Ему было жаль Бредихина. В конце концов, Бредихин ведь ее любил, но, наверное, меньше, чем она его.
А Леська сидел на скамейке и, может быть, впервые взглянул по-взрослому на свою жизнь. Зачем он не бросил гимназию? Что это за идол такой? Он возненавидел гимназию, которая убила Васену. А как эта девушка, оказывается, любила его... До самоубийства! А он? Он ведь тоже любил ее... Жить без нее не мог... Но гимназия, гимназия! Где теперь встретить такую любовь? Да и сам он никого больше так не полюбит.
Пришел Андрон. Леська даже не заметил, когда он приехал.
— Слыхал? — сказал Андрон весело. — Дуван вчера в клубе проиграл шестьдесят тысяч.
— Да? — машинально спросил Леська. — Значит, возможно, что Леонид действительно выиграл эту дачу?
— А ты в это не верил?
Леська молчал.
— И я не верил. Черт его знает почему, но не верил.
— А теперь веришь?
— Не так чтобы очень, но все-таки, если Дуван проиграл шестьдесят тысяч, значит, кто-то их выиграл?
— Логично.
Леська пошел к Дуванам. Не потому, что его интересовала судьба этих шестидесяти тысяч, а потому, что надо же было куда-нибудь пойти.
У Дуванов паники не было, очевидно, после проигрыша у них еще кое-что оставалось. Во всяком случае, Сеня встретил его спокойно.
— У папы это не впервые. Когда папа нервничает, он всегда играет и, конечно, всегда проигрывает. Все-таки лучше, чем возможность самоубийства.
Леська вздрогнул.
— О каком самоубийстве ты говоришь?
— О папином. Он оставил в Киеве театр, который фактически купил. А что теперь? Не в Евпатории же ему держать антрепризу. Все рухнуло.
— А разве твой отец не верит, что в России все пойдет по-старому?
— Папа не Деникин.
— Значит, не верит?
— Он верит в большевиков, хотя ненавидит их изо всей силы.
— Он очень умный человек, твой отец.
— Очень.
Они сидели на скамье у входа в отель. К ним подошел Голомб с футбольным мячом в руке. Он поманил Леську пальцем.
— Извини, Сеня, я на одну минуту.
— Что у тебя общего с этим гегемоном? — иронически спросил Сеня.
— Они хотят, чтобы я играл у них форварда.
— Кто это «они»?
— Маккабийцы.
— Но ты, конечно, не согласишься?
— Конечно.
Леська прошел с Голомбом до угла, обогнул «Дюльбер» и вышел к трамвайной остановке.
— Ну! В чем дело?
— Сейчас, Бредихин, сейчас. Все узнаешь.
В трамвае доехали до центра, потом пошли на вокзал.