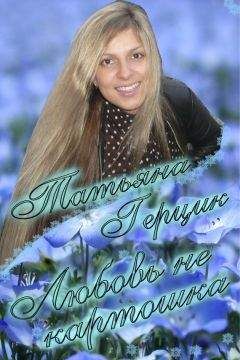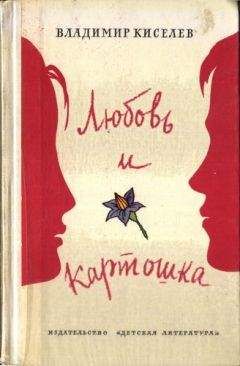Илья Сельвинский - О, юность моя!
Прежде всего его раздевали и укладывали в постель. На Леськину долю приходились башмаки: это были два дредноута. Появлялся чай с лимоном: после грязей ужасно хочется пить. В это время Улька то и дело обтирал лицо Поддубного мохнатым полотенцем. Потом Максимыч лежал с закрытыми глазами, а кто-нибудь читал ему очерки из журнала «Геркулес». Поддубный знал всех борцов и время от времени подавал реплики:
— Что? Туомисто получил второе место? Странно. Выше четвертого он обычно не подымался.
— Ле Буше — мужик настоящий.
— Лурих Первый... Самый трудный случай в моей жизни. Поверите? На «мосту» ходил. Очень интересный человек!
Потом реплик становилось все меньше и меньше, и богатырь засыпал. Юноши выходили на цыпочках, но оставляли у двери часового: никто не имел права беспокоить чемпиона — это была их собственность.
На этой почве однажды чуть не произошел бой. Пришла делегация от еврейского спортивного общества «Маккаби». Маккабийцы набирались из мастерового люда: сапожники, жестянщики, пекари, слесари, столяры. С гимназистами не общались. Но сегодня они пришли в «Дюльбер» приглашать чемпиона мира посмотреть их тренировку. В этот день у дверей дежурил Канаки. Он был глубоко возмущен приходом маккабийцев к «его Максимычу».
— Иван Максимыч не сможет к вам прийти! — заявил он резким тоном.
— Почему?
— Потому что он на весь свой приезд связался с нашим кружком.
— А вы его купили, босяки? — спокойно сказал капитан маккабийцев, которого звали Майор.
— Но! Ты! Выбирай выражения, а не то, знаешь?
— Уй-уй-уй, какой ты сильно каторжный! — с комическим испугом сказал Майор. — А если одну дыню в зубы? — И он показал огромный кулак. — Будешь бедный, как муха на палочке.
— Убирайтесь вон отсюда, оборванцы! — завопил Улька, забыв, что обязан охранять сон Поддубного. — Скажите спасибо, что вас вообще впустили в «Дюльбер».
Дверь неожиданно отворилась.
— Что за шум, а драки нет?
— Господин Поддубный! Вы только с буржуями согласные иметь дело? — спросил Майор.
— Майорчик, перестань, — шепнул ему кто-то из маккабийцев.
Поддубный сухо взглянул на юношу.
— Я сын крестьянина, — сказал он. — И не так далеко ушел от народа.
Но Улька не давал им найти общий язык.
— Все эти люди собираются ехать в Палестину! — запальчиво объявил он.
— А ты обеспечил нам хорошую жизнь в России? — едко спросил Майор.
— После революции все нации равны! — еще более возбужденно кричал Улька.
— После революции? — иронически спросил Майор.— Пеламида! Спасибо твоему Деникину за его еврейские погромы.
— Бросьте, ребята. У нас не митинг, — усталым голосом сказал Поддубный. — С чем вы ко мне пришли, молодые люди?
От имени делегации выступил все тот же Майор. Поддубный выслушал его и, к полному посрамлению Ульки, дал обещание в первое же воскресенье прийти в ремесленную синагогу, во дворе которой стояли гимнастические снаряды, а в сторожке хранились гири, боксерские перчатки и ковер для классической борьбы.
Вообще же Иван Максимович в ответ на заботы Видакаса и компании должен был ежедневно посещать спортивный зал гимназии, где занимались борьбой его юные друзья. Все замечания Поддубного, даже самые мимолетные, были замечаниями Поддубного, и их воспринимали глубже, чем любые лекции по математике, физике, истории.
— А из этого мальчика толк выйдет, — сказал Поддубный, указывая на Леську. — Елисеем вас зовут? Хотя Елисей сильнее всех вас, но он не рассчитывает только на силу: парень борется с умом. Понимает, что делает.
Леська покраснел и невольно взглянул на Артура: ему было перед ним стыдно. Но Артур старался не смотреть в его сторону.
— А вот с Артуром дело хуже, продолжал Поддубный. — Он борется очень красиво, на девочек рассчитывает, а это очень опасно.
— Что «это»? Девочки?
— Ну и девочки тоже, — засмеялся Максимыч. — А главное, покуда он думает, как бы покрасивее вышел пируэт, его, глядишь, тут же припечатают на обе лопатки.
По вечерам Поддубного водили в городской сквер. Именно «водили». Как слона. Иван Максимыч любил музыку и охотно слушал симфонический оркестр. Сегодня, однако, день особый: играет «хор трубачей его императорского величества Вильгельма Второго».
Максимыч уселся на скамье в пятом ряду, заняв сразу три места. Рядом с ним Артур и Юка с одной стороны,
Улька и Сеня — с другой... Леська стоял за последним рядом и глядел на германских солдат, овитых трубами, как Лаокоон змеями. Он вспоминал немецкую разведку, разгромленную бронепоездом, бой на станции Альма, застреленного немца с гранатой «лимонкой»... А теперь они воскресли и вот сидят в садовой раковине и дуют своих Веберов и Вагнеров.
— Леся... — услышал он женский голос.
Леська оглянулся: в куше деревьев, под фонарем, окутанным мошкарой, как вуалью, стояли две девушки. Одна из них Васена.
— Васена! — сказал он так громко, что на него зашикали. — Ты здесь?
— К тете приехала. А это моя двоюродная. Знакомьтесь.
— Катя.
— Елисей.
Леська и Васена глядели друг на друга, не зная, что сказать, и только улыбались так, что Катя не выдержала:
— Ну, идите, погуляйте, а я за вас музыку послушаю.
Не сговариваясь, они пошли к выходу, обогнули сквер и вышли на рыбачий пляж, на котором кверху днищем лежали большие лодки.
Елисей взял девушку за руку. Она позволила. Беспричинно смеясь и размахивая соединенными руками, они подошли к самому морю. Васена вырвала руку, не садясь, сняла туфли и, приподняв платье, вошла в воду.
— Ух, какая теплая!
Лунные блики заметались по ее ногам, осеребрив их и сделав еще более стройными. Леська кинулся за ней в воду как был в ботинках и, подхватив на руки, взбежал на пляж, повалился с ней на песок и жадно прильнул к ее рту. Васена ответила ему таким жарким поцелуем, что он задохся. Оторвавшись, он поднял голову и взглянул ей в глаза: она заманчиво улыбалась. Он кинулся к ее ногам и стал целовать мокрые от воды, соленые колени. Она засмеялась, села, схватила руками его голову и потянула к своим губам. И опять поцелуй — горячий, всепоглощающий, такой, в котором раскрывается душа.
— Делай со мной все, что хочешь, — шепнула Васена.
Леська сразу отрезвел.
— Ну! — позвала Васена. — Что же ты?
— Нельзя этого, — упавшим голосом, но все еще возбужденный, ответил Леська. — Отец тебя убьет.
— А тебе какое дело?
— Нельзя! — уже строже сказал Леська. — Я никем... не могу... для тебя быть... А если так, то какое я имею право?
Васена, лежавшая на боку, резко отвернулась, припала головой к рукам и зарыдала. Ноги у нее были голыми и все еще сверкали. Леська глядел на нее голодными глазами. Но, понимая, что отказывается сейчас от самого исступленного наслаждения, может быть, даже от счастья, он все же отвел глаза и начал снимать ботинки, чтобы вытряхнуть из них воду и ракушки.
Они возвратились в сквер. Катя внимательно поглядела обоим в глаза и ничего не сказала: поняла ли она то, что произошло? Когда Леська провожал их домой, обе всю дорогу молчали. Говорил один Леська — о самых безразличных вещах.
Домик Катиной мамы находился на Пересыпи, неподалеку от привозной площади. Леська запомнил его навеки: маленький домик распахнул такие ставенки-жалюзи, точно вот-вот сорвется с места и полетит над морем, как огромная бабочка.
На другой день, сам не зная зачем, Леська опять появился на Пересыпи. День выдался облачный, и домик с крылышками выглядел уже не так лирично, как вчера вечером. Леська прошелся мимо окон, но никого не высмотрел. Потом вернулся и приоткрыл калитку.
Катя и Васена проносили по двору огромную лохань и, подойдя к помойной яме, начали сливать в нее мыльную воду. Обе были босы. Катя в одной рубахе, а Васена в лифчике и в короткой нижней юбке. Леська быстро захлопнул калитку, точно заглянул в женскую купальню.
Против домика над самым обрывом стояла красивая голубая скамейка со спинкой — очевидно, украденная пересыпцами в городском сквере. Леська побрел к скамье и опустился на нее совершенно разбитый.
— Если ты пришел, чтобы ухлестывать за Катей Галкиной, то я с тебя сделаю два, — сказал ему здоровенный парень.
— А вы кто такой?
— Ну, положим, я на минуточку слесарь Майор Голомб. Что с этого меняется?
— Ничего, конечно, — вяло отозвался Леська. — Только я сюда пришел не ради Галкиной.
— А заради кого?
— Это — дело мое.
Голомб уселся рядом и вытянул длинные ноги в обмотках. Это был очень красивый мужчина, но красота его чуть-чуть устрашала: черные волосы, которых он как будто никогда не стриг, казались вырубленными из гранита и вздымались сзади, не опадая на затылок. Глаза синие, нос орлиный, губы в пламени.