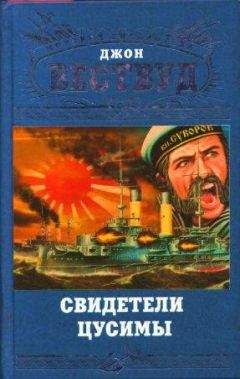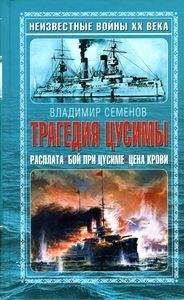Леонид Гиршович - Обмененные головы
Дело плохо, но не безнадежно. Русский в качестве альтернативы предлагать ему было смешно, но, во-первых, какой-то ломаный английский в моем распоряжении все же имелся, а во-вторых, работа в опере плюс обучение с детства музыке, на скрипке (и отсюда особая восприимчивость к этому языку) делали для меня итальянский – mare nostrum. В критические моменты в моей памяти всплывали именно итальянские языковые реалии: оперные реплики, нотные обозначения. Мне кажется, попади я в Италию, уже в следующую минуту я заговорил бы с местными жителями по-ихнему.
Однако прежде чем пустить в ход мой шарлатанский итальянский и невольничий английский, я все же, для поддержания престижа исключительно, предложил на выбор «руссо» и «иврит» – в сочетании с уже отвергнутым «alemeo» это было чем-то. И тут он обнаруживает знание иврита. Я еврей? Ему известно, что многие евреи говорят по-немецки. Далее по моему ивриту он «догадался», что, наоборот, я немец, изучивший иврит, что в наши покаянные времена тоже не редкость.
Он меня слушает… между прочим, не принадлежу ли я к римско-католической церкви? Я развел руками и поднял глаза: ани мицтаэр. Иврит как средство общения беглого харьковчанина с католическим падре где-то в крошечном португальском приходе – такое, наверное, случается нечасто. Правда, раз в жизни случается и не такое; я стал говорить о старых метрических записях, конкретно – 1919 года, в каждом столетии бывает один такой год, в нем есть что-то от телефонного номера полиции, «скорой помощи», пожарной команды. Эти записи должны храниться при церкви, насколько я понимаю. Или я ошибаюсь, с течением времени такого рода документы попадают в некий общий архив? Мной движет сугубо научный интерес. В этом самом 1919 году в Эспириту-Санту…
«О. Антоний» поднял руки: он так и думал – запись о крещении младенца, чьи родители из Австрии? Мое изyмление было ему приятно (чувство, мне знакомое). Пусть меня не удивляет подобная проницательность, не так давно один мой земляк был здесь с аналогичными целями, он-то и предупредил, что прибудет другой господин, тоже ученый. В ученом мире разгорелся спор о точной дате рождения побочного сына какой-то важной особы… или он неправильно понял?
Я спохватился: нет-нет, все правильно… выходит, был мой земляк, предупредил, что я тоже приеду? Да, этот господин прекрасно говорил по-французски – и еще оставил свою визитную карточку, но, к сожалению… Отец Антоний совершенно не припомнит, куда он ее положил. Он мне сейчас покажет метрические книги, я сам смогу тогда попытаться отыскать интересующую меня запись. Вдруг мне повезет больше, чем… Что значит больше?! Он что же, не нашел? Отец Антоний развел руками, в точности как я – на вопрос, не принадлежу ли я к римско-католической церкви.
Это был какой-то подвох: запись отсутствует. Как это может быть? Я шел, точней, спускался по лестнице за квадратной спиной португальца – маран, понимающий уже, что попался, но еще не представляющий, на чем, собственно. Мы остановились. Словно для полноты сходства о. Антоний достал связку огромных ключей, отыскал на кольце тот, что нужен, и отпер им низкую полукруглую дверь. Мы вошли. Вот церковные книги начиная с семнадцатого века, когда эта церковь была построена.
Пучина веков глянула на меня одинаковыми корешками грубых самодельных переплетов – здесь все века были семнадцатые. 1917—1925, регистрация младенцев, рожденных и крещенных в эти годы в этом приходе, – пожалуйста. Помимо дня крещения и имени, я найду дату рождения, имена родителей, а также восприемников. Он же, с моего позволения, удалится.
Один, в подземелье, при свете электрической лампочки, свисающей на витом шнуре без всякого абажура, без всякого колпака, я осторожно открываю сию книгу жизни. Первая запись от 5 января 1917 года. Девочка с тремя именами. Здесь дата рождения, здесь родители, здесь крестные – все понятно. Бумага вроде той, на которой печатало ноты издательство «Рикорди» в середине прошлого века, – очень плотная, серая. «Травиату» и «Риголетто» мы все еще играем по таким нотам, правда, уголки страниц у них замусолены и рассыпаются (каменные и те бы рассыпались), тогда как сейчас передо мной бумага совершенно девственная, она даже имела какой-то свой запах.
Я открыл в середине. Открылся октябрь 1919 года, рождаемость сильно подскочила – подпрыгнула от радости, что война закончилась (а кто сегодня, не задумываясь, скажет, на чьей стороне Португалия воевала в Первую мировую?). Коль скоро я уже в октябре, то загляну в соседний ноябрь: третьего ноября, как меня пытаются уверить, родился Флориан Михаэль Николаус Кунце. Если б мой предшественник искал и ничего не нашел в этом месяце, то было бы понятно. Нет, не там он искал (как и следовало ожидать, с третьего и до конца месяца – ничего), не там искал, потому что знал, где надо искать. Вряд ли это был купленный человек, частный сыщик – скорей всего, посвященный во все тайны этой семьи стареющий обожатель стареющей Зары Леандер… В апреле на шестом, в мае на седьмом, в июне на восьмом – в июле должна была родить. Как прикажете понимать «ничего не нашел» – что, вообще никакой записи нет? Сейчас узнаем… Смотри-ка, он поехал сюда немедленно после того, как я там был. Все прежде меня проверил и уехал с легким сердцем? Но разве возможно, чтобы в таком месте, как Эспириту-Санту, где к тому же они еще потом долго жили (скажем так: скрывались – скрывали сроки), родившееся дитя не было крещено? Да их бы со свету сжили, хозяин бы им дом перестал сдавать. Не говоря о том, что Вера переживала такой роман с католичеством.
Я даже вскрикнул – увидав собственное имя: Йозеф Готлиб. В первую секунду я не сообразил, что это была визитная карточка, заложенная между двумя страницами: «Йозеф Готлиб. А.И.Э. (Ассоциация избравших эвтаназию [182] ) Циггорнское отделение» – и далее мой адрес. Вот какую «визитную карточку», оказывается, отец Антоний позабыл, куда сунул. Не важно, эта вторая предназначена для меня, мне недвусмысленным образом угрожали. Причем каков психологический расчет: выстрел с такой меткостью на такое расстояние. Однако ради того все же не стоило со стрелой в клюве лететь в Португа… Так на полуслове я и застыл, только теперь разглядев окошко в следующую страницу, – прорезанное бритвой (и след от нее на следующей странице – вместе с капелькой крови).
Это акт. Мы перешли Рубикон. Возможно, по здешним законам это серьезное преступление – порча церковных книг. Святотатство. Скорей закрыть, поблагодарить батюшку, на такси, на поезд – и в Лиссабон. Никаких жалоб, никаких дел с местной полицией.
По дороге в Эспириту-Санту я с демократической бодростью сидел рядом с шофером; назад в Томар он вез распластавшееся на заднем сиденье тело. Не поражение меня сразило – в тот момент, когда государственная граница Советского Союза осталась позади, в моем сознании совершенно четко определилась граница иная: между законным и незаконным, нечистым. И когда оппонент эту грань игнорирует, уголовничает: режет бритвой церковную книгу, угрожает убить (сам, дескать, «выбрал эвтаназию»), тут я в растерянности. Я не боюсь нападения в темноте, но я боюсь темноты – в которой я слеп.
Теперь они полагают, что спрятали концы в воду (отныне это уже они ). Доказать ничего нельзя. Ничего, отыщутся другие доказательства, но теперь вопрос, чего именно. Слишком неадекватными становились средства противодействовать моим в общем-то скромным целям – убедиться, что мой дед по крайней мере одну свою смерть пережил; да еще попутно – что у Кунце, к его чести, слова расходились с делами. Нет, я не верю в маньяков нацизма сегодня (не считая умственно отсталых, это могут быть только жулики). И потому не верю в чьи-то попытки любой ценой помешать «денацификации» Кунце. Скорее я допущу, что женщина, наделенная честолюбием Фамари [183] , пойдет на многое, лишь бы скрыть свою неудачу. Но даже это все в конце концов красоты стиля. Фамарь… Первая здравая мысль – что это «пакет». Попытаешься вынуть что-то одно, высыпается сразу все. Что – все ?
Я не забыл, что Петра подслушала такой диалог: «Он все знает». – «Все?» – «Ну, не все…» Поэтому повторяю:
что – все ? Я по-джентльменски вел открытую игру. Это было непростительным легкомыслием. Как можно было, рассказав ей про письмо, дать номер телефона Боссэ; в результате Боссэ «убеждают», что письмо поддельное. А эта церковь? А эта запись в книге? Я же сыграл роль наводчика. Теперь наводчику сказали: «Все. Ты понял, кто ты, – понимай, по логике, и кто мы. И мы шуток не шутим».
Я как-то не верил, что ли, в глубине души, что я настоящий , всерьез никогда себя до конца не воспринимал. Не знаю почему, чем питалось это затянувшееся детство, но я так и живу, с чувством, что у других – да, взрослая жизнь, со мной же только игра, все какие-то «крестики-нолики». (Между девятью и двенадцатью – этакий девчоночий возраст в человеке – я занимал себя в трамвае и на уроках тем, что играл – соответственно с собою или с соседом – в крестики-нолики: девятиклеточный квадрат, на котором сражаются крестики – они начинают – и нолики. Цель: заполняя поочередно клетки, крестик – нолик, крестик – нолик, выстроить три своих значка по прямой в любом направлении. У ноликов шансов на выигрыш почти не было – только помешать противнику, свести все к ничьей. Однако, зная назубок все ходы-выходы, свой ничтожный шанс на победу, свое «почти» ноликам все же случалось реализовать.)