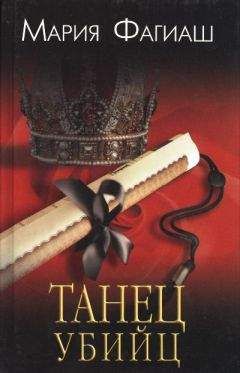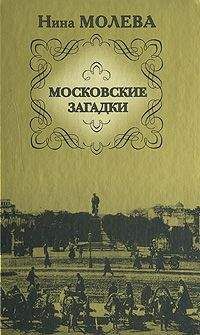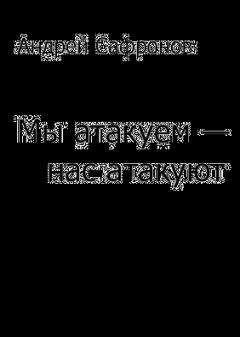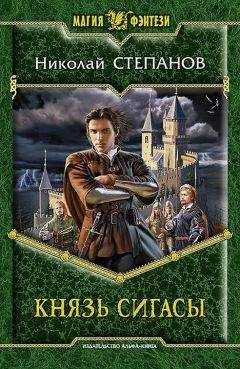Нина Молева - А. Г. Орлов-Чесменский
— Государыня-матушка, не моя в том вина — Екатерина Романовна велела. Непременно доложить велела.
— Маленькая упрямица! Что заставляет вас быть такой чинной? Когда вы приезжали ко мне во дворец с черного крыльца, к больной, еще не вставшей с постели, вы не думали о церемониях.
— Я приезжала к великой женщине, обижаемой судьбой и окружающими. Я надеялась облегчить ее положение и будущее. К тому же эта женщина была великой княгиней, а не самодержицей Всероссийской.
— Возможно, я ошибаюсь, но мне в ваших словах слышится укор, княгиня.
— Как можно, ваше величество!
— И вы словно сожалеете о тех временах?
— И это не так. Хотя…
— Что хотя? Договаривайте же. Между нами не должно быть недомолвок.
— В том давнем положении великой женщины разность между ею и обыкновенной придворной дамой была куда меньшей.
— Вы несносны, княгиня! Положительно несносны! Уж не ревнуете ли вы меня к моим новым обстоятельствам? Но это было бы слишком глупо!
— О, нет, государыня, если во мне и есть, как вы изволили выразиться, чувство ревности, оно относится только к возможности делиться мыслями и чувствами — не более того.
— Так что же вам мешает это делать сейчас? Я жду откровений. Они, как всегда, мне очень любопытны.
— Я думала о московских торжествах по поводу коронации, ваше величество.
— И что же?
— Какими им следует быть — не в смысле пышности, но как бы сюжета. Ведь это Господом данная возможность для новой императрицы заявить свое политическое кредо. Оно станет общедоступным и не потребует тех угодливых и своенравных истолкователей, которые способны придать каждой изначальной мысли прямо противоположный смысл.
— Но мы уже об этом с вами говорили. Вы сочинили их прожект?
— Нет, государыня, такой прожект превосходит мои слабые возможности. Я не имею опыта в подобных делах.
— Не боги горшки обжигают, княгиня. Так, кажется, говорят?
— Так, ваше величество. Но здесь речь идет не о простом горшке, а об изысканнейшем сосуде.
— Метафора хороша, но что вы предлагаете?
— Прежде всего участие подлинных литераторов, разделяющих вполне ваши взгляды, государыня, на просвещение. Век, который начинаете вы, войдет в Российскую историю как век Просвещения.
— Хорошая мысль! Но как вы себе мыслите претворить ее в жизнь? Надо приказать Штелину…
— Вот этого я более всего и опасалась, государыня! Якоб Штелин был нанят ко двору в незапамятные времена сочинять аллегории. Но это аллегории обо всем и ни о чем, как те, которые предложил вашему вниманию живописец Лагрене. Место на изображенном им троне может занять любой монарх, а одна и та же муза станет нести атрибуты комедии, трагедии или фарса, ни в чем не меняясь.
— Но чего же еще вы требуете от искусства?
— Многого, ваше величество. Литератор способен вложить в свое сочинение подлинную идею вашего наконец-то наступившего царствования, которая заявила бы народу и всей Европе о ваших необыкновенных замыслах. И он же поможет живописцу — не придворному моднику, искушенному на одной лести, а Живописцу сочинить соответствующую композицию.
— Вы имеете кого-то в виду, княгиня? Но я уже назначила ответственным за все московские торжества фельдмаршала Никиту Трубецкого. Каким образом вложить в его голову подобные многосложные идеи?
— Нет ничего проще, государыня! Осмелюсь напомнить, что князь Никита Юрьевич был великим другом самого Антиоха Кантемира. Мало того, что сей оригинальный поэт пересылал ему из-за границы все свои сочинения, но и посвятил князю замечательнейшую оду «О воспитании» и сделал это не в России, а оказавшись в Париже.
— Любопытно. Что же, он видел в фельдмаршале единомышленника?
— О да, государыня! А Кантемир был очень требователен в вопросах нравственности. Князь не давал ему поводов для сомнений.
— И вы считаете целесообразным познакомить князя с вашей программой?
— Государыня, у меня нет никакой программы — это ваши мысли, которые вы находили возможным мне высказывать, а я была счастливой их слушательницей. Князю достаточно рассказать суть дела. К тому же, я не успела вам сказать, Михайла Матвеевич Херасков, служащий в Московском университете, — пасынок князя. Херасков осиротел двух лет и едва ли не с тех самых пор воспитывался в доме князя, который женился на вдове господаря валашского.
— А, это проливает новый свет на князя.
— Но и этого мало. Херасков принял к себе в дом юного малороссиянина Ипполита Богдановича, о котором говорят, что он выказывает редкие стихотворные способности.
— Еще один способный сирота?
— Не знаю, сирота ли. Десяти лет он был зачислен на службу, где Херасков обратил на способного мальчика внимание и не ошибся.
— Напомните мне в Москве обратить внимание на все это семейство, княгиня.
— Сделаю это с величайшим удовольствием, ваше величество. Однако, если я не испытываю вашего терпения, я еще не кончила.
— Хотя вы меня вполне убедили, дорогой друг, я с удовольствием слушаю продолжение.
— Оно в имени, которое хорошо вам известно, ваше величество. Вы помните журнал «Полезное увеселение» за 1760 год?
— Я не охотница до загадок, княгиня.
— Нет, нет, государыня, я только апеллирую к вашей памяти. Думаю, вы обратили внимание на изящные стансы «Не должен человек» и «Будь душа всегда спокойна»? Это творения супруги господина Хераскова Елизаветы Васильевны, нашей преотличнейшей российской поэтессы.
— Отлично. Остается передать фельдмаршалу главный замысел, и он претворит его в жизнь вместе со всеми своими домочадцами.
— О, вы иронизируете, ваше величество.
— Нисколько. Мне пришло в голову, что господину фельдмаршалу надо вообще предоставить полную свободу. Пусть он выразит до конца все свои помыслы.
— Но если они не во всем совпадут с вашими мыслями, ваше величество?
— Ничего страшного. Напротив — это будет программа московского дворянства безо всяких ограничений. Я узнаю их стремления, а дворянство убедится в том, что приобрело в моем лице одинаково с ним думающую правительницу. Разве не так, княгиня?
— Превосходное решение, государыня!
— Вот только отстранять господина Штелина от московских торжеств не следует. Он давно превратился в своего рода символ российского самодержавия. Пусть все остается как было, но мы его полностью подчиним фельдмаршалу. Надеюсь, князь найдет способ использовать старика и, во всяком случае, не обидеть.
— Нужно ли князю подобное осложнение?
— Князю нет, императрице — да.
МОСКВА
Дом князя Никиты Трубецкого
Князь Н. Ю. Трубецкой, И. И. Бецкой
— Рад, душевно рад, племянничек, тебя в Москве видеть. Надолго ли, Иван Иванович?
— С письмом я к вам, дядюшка. От самой государыни Екатерины Алексеевны.
— Государыни, говоришь?
— От ее императорского величества ввиду предполагаемых в Москве коронационных торжеств.
— Да-с, посчитать, так до восьмого монарха в жизни дожил. Сказать, самому не верится.
— Осьмого? Полноте, дядюшка, откуда столько?
— Сам сочти, не поленись. На свет я пришел годом позже, что государь Петр Алексеевич из Великого посольства в западные страны возвернулся. Крови-то што, слез кругом было, батюшка сказывал. Едва Москва той кровушкой да слезами не захлебнулась.
— Полноте, дядюшка, Петр Великий монархом был справедливым и корабль империи Российской по верному курсу развернул. Иначе никак нельзя было.
— Нельзя? А как с душами невинно убиенных быть?
— Как же невинно, коли против законного императора руку поднять осмелились?
— Законного, говоришь. То-то и оно, что нет такого закона единого, чтобы самую правду утверждал. Петр Алексеевич младшим сыном государя Алексея Михайловича был, да еще от второго брака.
— Но для России ум его более значил.
— Ну, а как ты в уме мальчонки десятилетнего разберешься? По закону-то престол одному Иоанну Алексеевичу надлежал. О младшеньком и речи не было.
— Так ведь была! Само же шляхетство за Нарышкиных встало. Не так разве?
— То-то и оно, что не так. Нарышкины за Нарышкиных встали. Многонько их тогда при дворе было. В силу войти не успели, разбогатеть тоже, а все возле государыни-сестрицы Натальи Кирилловны скопом держались. В нужную минуту свое дело кровное и устроили.
— Какое дело, дядюшка?
— Оно и видно, что ты, Иван Иванович, как в заморских краях родился, так и ума там набирался — обстоятельств российских не ведаешь. Да и не сказал бы я тебе ничего, кабы не твоя с новой государыней близость. Ей может пригодиться, да и тебе самому при случае не помешает. Так вот, Иван Иванович, объявили Петра Алексеевича царем, когда еще Федор Алексеевич не скончался. Вся семья царская в скорби да отчаянии пребывала, а Нарышкины поторопились.