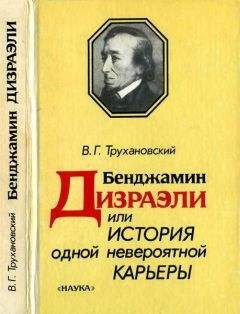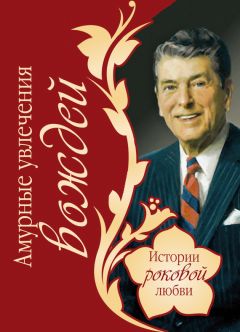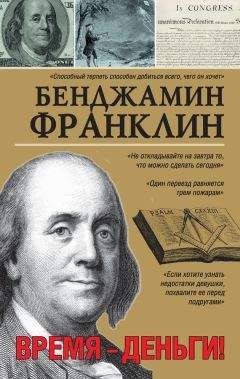Марк Алданов - Живи как хочешь
Завтракать он поехал не в тот дорогой ресторан поблизости от биржи, где собирались только что нажившие много денег люди, а подальше, в другой, еще лучше. Он знал толк в еде и винах (этим пожертвовать сходству с Наполеоном не мог). Долго и старательно обдумывал и выбирал блюда. Вина заказал только полбутылки: заботился о здоровьи, и рабочий день еще далеко не был закончен. За завтраком он думал не о делах. Думал о еде, думал также о всяких пустяках, о том, как он обедает со своими маршалами после победы под Аустерлицом, о том, как в Варшаве ему отдается графиня Валевская, о том, как приятно было бы быть римским патрицием и иметь рабынь. Представлял себе, как он уносит на руках полуодетую красавицу, спасая ее от мужа или другого соперника, – в этом уносе на руках он видел что-то особенно поэтичное. Думал также о дуэли, которая могла бы у него быть с каким-либо известным человеком, и даже мысленно намечал себе для нее подходящих по рангу секундантов, – дуэль кончалась легкой раной противника и примирением. Эта привычка думать о вздоре за едой и перед сном осталась у него с отроческих лет; он сам считал ее глупой, но отделаться от нее не мог, да и жаль было бы с ней расставаться: она была уютной.
За кофе он вынул из кармана первый курс ценностей и первое издание вечерних газет. На бирже узнал, что франк упал за день, но не очень: на 4 процента. Делавар помнил, когда и по какой цене приобрел каждую из своих многочисленных акций, какие дивиденды она приносила, каковы были ее высший и низший курсы. Следил и за курсом тех ценностей, которых у него не было. Он вел большую биржевую игру; биржевики-остряки называли его Карлом Смелым; это очень ему льстило. Другая часть его богатства была связана с самыми разными, сложными делами. Делавар не мог бы точно сказать, каково его состояние. Подсчитывать можно было только биржевой «портфель» и он любил это делать. Так и теперь, хотя перемены за день были невелики, приблизительно подсчитал: около трехсот двадцати миллионов. В долларах цифра выходила гораздо менее внушительной. Мысль о том, что все его ценности не стоят и одного миллиона долларов, тогда как какой-нибудь американский болван, вроде Пемброка, имеет больше, была ему неприятна.
Как многие люди, он был почти лишен способности на себя оглядываться. Делавар не был ни циником, ни лицемером; не был даже лгуном, – поскольку тщеславие может не переходить в лживость. Богатство было неотделимо и от поэзии, и от идей: он собирался вести большие политические дела. Одной из его любимых книг были воспоминания банкира Лаффита, который лично знал Наполеона, бывал у королей и королев и руководил революцией 1830 года.
Как всем, Делавару было известно, что коммунисты – и не только они одни – убеждены во всемогуществе Уолл-Стрит. Он иногда и сам так говорил со значительным видом, точно немало мог бы об этом рассказать. Делавар хотел в это верить. Однако он бывал и на нью-йоркской бирже, лично знал многих ее деятелей, знал главных финансистов в разных столицах Европы. При встречах с этими людьми он испытывал некоторое разочарование (такое же чувство, вероятно, испытал бы, если б встретился, например, с «Сионским мудрецом», а тот благодушно заговорил бы с ним о цене на хлопок и пригласил бы его на завтрак в еврейский ресторан). Все это были незначительные люди; они не только не правили миром, но и не очень хотели им править и совершенно не знали бы, куда мир вести, если б в самом деле обладали тем могуществом, которое им приписывали. Свои дела они устраивали хорошо, хотя и тут никакой гениальности не проявляли: составляли богатство чаще всего по воле случая, иногда потому, что были очень настойчивы, хитры и беззастенчивы. Вдобавок, огромные состояния создавали далеко не самые одаренные из них; наиболее смелые и умные, напротив, нередко разорялись или ничего не достигали.
В политику все эти люди действительно часто вмешивались, главным образом для устройства своих личных деловых комбинаций или деловых комбинаций их групп. И хотя и они сами, и особенно их группы обладали громадными капиталами, – в общеполитическом масштабе больших стран их вмешательство в государственные дела имело очень мало значения. Обычно оно сводилось к подкупу чиновников, но опять-таки для устройства частных, а не мировых дел. Они вообще плохо разбирались в политике, были мало образованы, иностранных дел совершенно не знали, как обычно не знали и иностранных языков. Если их частные дела зависели от мировых событий, то в большинстве случаев они ошибались в расчетах. Эти люди часто наживались на военных поставках, но войны устраивались не ими. Влияние их в политике к тому же с каждым годом уменьшалось. Чаще всего они поддерживали противников демократии, и это тоже свидетельствовало об их ограниченности, так как деньги им было все-таки легче наживать при свободном строе. И действительно, большинство огромных состояний именно в свободных странах и создалось. Симпатии этих людей к диктаторам бессознательно связывались с тем, что им хотелось быть диктаторами в своих предприятиях. Между тем ограничения их власти там нисколько не мешали им богатеть. Не очень им вредили и социальные реформы, к которым легко было приспособиться, не теряя денег; гораздо больше мешал подоходный налог, – но и тут были возможны всякие комбинации, не нарушавшие или почти не нарушавшие законов уголовного кодекса. Стачечников они действительно терпеть не могли, и это увеличивало их симпатии к диктаторам. Однако диктаторы, запрещая стачки, не очень церемонились и с капиталистами. По опыту истории «люди с Уолл-стрит» могли бы знать, что в громадном большинстве случаев диктатуры кончаются худо и для диктаторов, и для их друзей. Но они историю знали плохо и, несмотря на тяжелые уроки в прошлом, все же верили, что найдется настоящий, хороший, прочный и долговечный диктатор. Впрочем, помощь их диктаторам была тоже незначительной и обычно сводилась к денежной поддержке в ту пору, когда кандидат в диктаторы еще в ней нуждался. Они так же мало устанавливали диктатуру, как вызывали войны.
Все это Делавар знал или мог знать. Тем не менее он поддерживал в разговорах легенду о Уолл-Стрит: он и сам фигурально к международной Уолл-Стрит понемногу приближался. Но в тех случаях, когда он строил свои деловые комбинации на предвидении важного политического события, он обычно терял деньги. В свое время даже ордена Почетного Легиона ждал довольно долго, так как поставил не на того министра и, к крайней своей досаде, получил для начала лишь Орден Туристской Заслуги. Тем не менее его сомнения проходили быстро: он ошибаться не мог.
После завтрака он побывал еще в разных влиятельных учреждениях, в которых не совсем легко было понять, где начинаются дела и где кончается то, что он называл идеями. В Греции собирались кормить детей, некоторые другие страны снабжались машинами; в связи с этим возникали вопросы, кому будут даны заказы, кто будет снабжаться в первую очередь, и от кого все это главным образом зависит. В шестом часу его деловой день кончился: после шести он, по заведенному правилу, о делах не говорил. Светские приятели нередко в обществе расспрашивали его о биржевых комбинациях в надежде на даровой совет, как при встрече со знаменитыми врачами наводили разговор на болезни, которыми страдали. Он отшучивался и говорил о живописи, о музыке, о поэзии. Запоминал то, что при нем говорили знатоки. Их присутствие его совершенно не смущало. Сначала и они слушали, – в первую минуту и на них действовал его громкий голос и авторитетный тон, – потом, зевая, отходили; он смертельно обижался, если это замечал.
Обедал Делавар то в гостях, то в ресторанах, чаще всего в роскошном игорном доме. Старик-швейцар там встретил его радостно-почтительно. Знал, что он не француз и не Делавар, но уже нерешительно пытался называть его «господин барон». В гимнастическом зале он с полчаса фехтовал с каким-то настоящим бароном, проделывал разные приемы, секунды, кварты. Затем с тем же бароном пообедал и выпил бутылку шампанского. Делавар не был снобом и так же мало почитал титулованных людей, как людей знаменитых: часто полушутливо говорил, что от природы лишен «шишки уважения», слов же «inferiority complex» вообще понять не может; иногда еще шутливее добавлял: «у меня скорее „superiority complex"“. Но он всякую силу принимал просто как факт, а титул в мире еще кое-что значил, хотя его значение уменьшалось с каждым годом. Этот барон вполне годился и в качестве противника на дуэли: „Les adversaires se sont reconciliés“,[21] – но он был очень любезен, а главное, хорошо владел оружием. Гораздо больше годился бы в секунданты.
За обедом они говорили о том же, что все, и то же, что все: может быть, у Сталина уже атомная бомба есть, а может быть, у него атомной бомбы еще нет; может быть, Россия уже к войне готова, а может быть, она еще к войне не готова; может быть, война будет, а может быть, войны и не будет.