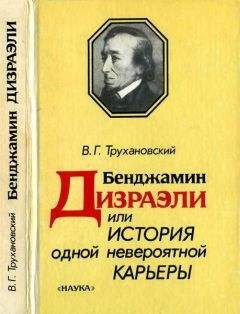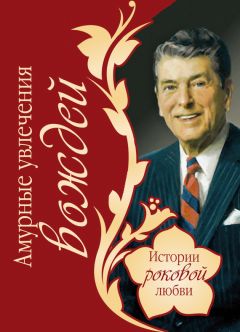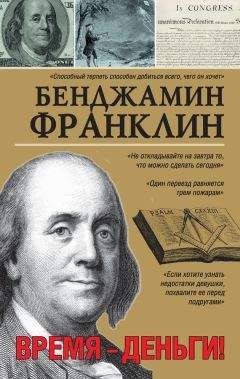Марк Алданов - Живи как хочешь
– Я получаю около семи тысяч долларов в год, а во время разъездов еще и суточные, в Париже по три тысячи франков в день.
– Это недурное жалование, – снисходительно сказал Альфред Исаевич, – но я вам предложу для начала (он подчеркнул эти два слова) пятьсот долларов в неделю. Разумеется, вам пришлось бы бросить Объединенные Нации. Это вас пугает?
«Ну, слава Богу! Значит, и это устроено!» – подумал Яценко с чрезвычайным облегчением. Он не ожидал столь большой цифры. – «Это важно не для меня, а для Нади».
– Нет, это меня не пугает. Они мне осточертели.
– Осточертели! – укоризненно повторил Пемброк. – Издеваться над Объединенными Нациями то же самое, что издеваться над Холливудом. Этим тоже только ленивый не занимался, и это тоже несправедливо.
– Во всяком случае, я должен вас предупредить: я очень независимый человек и по природе, и потому что я пробыл столько лет в СССР.
– Это скорее был бы довод в объяснение того, почему вы не независимый человек, – сказал, смеясь, Пемброк.
– Я смотрю на годы, проведенные в СССР, как Достоевский мог смотреть на годы, проведенные им на каторге. «Вот кого вспомнил! Ох, мегаломан!» – подумал весело Альфред Исаевич. – Повторяю, у меня этой нашей профессиональной писательской мегаломании нет и следа, – без полной уверенности сказал Яценко. – Там я только думал, а писать не мог ни строчки. Но я для этого и бежал за границу. Оказавшись в свободной стране, я твердо решил прожить остаток жизни вполне независимым человеком…
– Это прекрасная мысль, и, поверьте, я ни на чью независимость не посягаю. Я и сам терпеть не могу «иес-мэнов». И в конце концов, если мы не подойдем друг к другу, мы расстанемся и, надеюсь, друзьями. Что же вы скажете?
– Работать надо было бы в Холливуде?
– Позднее да. Но сейчас крутить мы будем не в Холливуде, а во Франции. У вас есть квартира в Нью-Йорке?
– Есть. Маленькая, холостая.
– Контракт я предложил бы вам на год, разумеется с продлением, если мы подойдем друг другу, – учтиво добавил Альфред Исаевич. – А если нет, то ведь за этот год вы заработаете двадцать шесть тысяч… Предупреждаю вас, что никаких налоговых комбинаций мы не делаем. Мы обязаны публичной отчетностью, и…
– Я налоги всегда платил без каких бы то ни было комбинаций.
– Как и я… Надеюсь, вы не обиделись? Но ведь, кажется, жалованье служащих Объединенных Наций не облагается налогом?… Одним словом, я вам предлагаю, по-моему, подходящий джаб. А если вы сделаетесь знаменитым сценаристом, то на вас польется золото. В Холливуде есть сценаристы, зарабатывающие в год до ста тысяч.
– Я подумаю, – сказал из приличия Яценко, чтобы не соглашаться тотчас. Он чувствовал все большее смущение. «Так верно чувствует себя женщина после первой измены мужу».
– Подумайте. Покажите мне вашу вторую пьесу, мы поговорим, я вас кое с кем познакомлю. В нашей группе я за собой оставил 51 процент. Французскую группу составляет Делавар, которого вы знаете.
– Да, я его знаю, – сказал Яценко, опять с неясным неприятным чувством.
– Что вы делаете в воскресенье днем? Приходите, мы поговорим, а потом я вас угощу обедом.
– Именно в воскресенье я не могу. Приглашен к Николаю Дюммлеру. Знаете его?
– Этого философа-анархиста? Кто же его не знает! Так он жив еще?
– Не только жив, но свеж, как мы с вами, хотя ему далеко за восемьдесят лет.
– Свеж, как мы с вами? – радостно повторил Альфред Исаевич. – Далеко за восемьдесят лет? А как он себя вел при немцах?
– Это, кажется, ваш вечный вопрос, но…
– Согласитесь, вопрос довольно существенный!
– Вполне соглашаюсь, но как же можно задавать его о таком человеке, как Дюммлер. Разумеется, он вел себя безукоризненно! Я в жизни не встречал более благородного человека! – с жаром сказал Яценко.
– Я тоже слышал, что Дюммлер хороший человек. Он был очень известен, когда я только что приехал из провинции в Петербург начинать свою карьеру публициста. Я его раза два видел на собраниях в 1905 году, он тогда вернулся из заграницы. Как чистого теоретика, его царское правительство не преследовало. Кроме того, он сын министра Александра II. Тогда, помнится, говорили, что он вивёр? Какие-то у него были сногсшибательные романы, тоже что-то страшно благородное… Он был очень богат. А теперь он верно нуждается? Если вы делаете сбор в его пользу, то я охотно приму участие. У меня есть пиэтет к таким людям, и я помню, что он не только никогда не был антисемитом, но и подписал протест против кишиневского погрома. Вас тогда верно еще на свете не было!
– Нет, он не нуждается.
– Слава Богу!.. Так если вы в воскресенье заняты, – давайте встретимся в начале будущей недели, я вам позвоню. И я очень, очень рад, что мы в принципе договорились. Вы об этом не пожалеете, даю вам слово Пемброка! – сказал с чувством Альфред Исаевич.
IV
Шарль Делавар не имел квартиры в Париже. Он занимал номер из четырех комнат в одной из лучших гостиниц. Имел также замок в Люксембурге, – был люксембургским гражданином. Это было ему удобно в отношении налогов. Дела у него были везде, но главным образом во Франции.
Репутация у него была не слишком хорошая. Отзывы о нем обычно начинались со слов «Да, но": „Да, но вы не можете отрицать, что он человек не злой“, или: „Да, но вы знаете, как он щедр и отзывчив“, или: „Да, но зато какой деловой человек“. Ничего особенно худого о нем никто точно не знал. Биржевых людей раздражало, что он, занимаясь такими же операциями, как они, все же создал себе репутацию „человека с идеалистическим мировоззрением“. Впрочем, они слова эти произносили редко и неуверенно, как, например, могли бы произносить слова „субдолихоцефал“ или „поверхность постоянной отрицательной кривизны“. Многие считали его очень умным человеком. Репутация „умницы“ распространяется в мире так же легко, как репутация „дурака“, – ошибок случается в обоих случаях приблизительно одинаково.
У большинства людей с запасом эгоизма, превышающим средний, т. е. чрезвычайно высокий, уровень, эгоизм умеряется тем, что они заботятся о своей семье. У Делавара семьи не было. Действовал он в жизни главным образом по инстинкту. Он не только не говорил, но и не думал, что самые важные в мире вещи это деньги и реклама. Однако поступал он всегда так, как если бы это было математически доказанной истиной, – сам он ее и не проверял, как не стал бы проверять, что дважды два четыре. Вопрос о том, зачем ему нужны еще сотни миллионов франков в дополнение к уже нажитым сотням миллионов, просто не приходил ему в голову; а если бы пришел, то он верно с недоумением ответил бы себе, что тут никакого «зачем» быть не может. Столь же бесспорно было то, что деньги и реклама тесно между собой связаны: при помощи денег реклама достается очень легко, а при помощи рекламы, хотя и далеко не с такой легкостью, можно наживать деньги. Конечно, реклама могла быть разной. Как все люди, он узнавал разве лишь десятую долю того, что о нем говорили. Как нормальному человеку, ему бывало приятно, когда о нем говорили хорошо. Но и когда говорили худо, это было все же много лучше, чем если б не говорили ничего. Вдобавок он знал, что людей, о которых говорили бы одно хорошее, не существует. Писали о нем – пока – чрезвычайно редко. Поэтому каждому упоминанию о себе в газетах, даже короткому и незначительному, Делавар придавал неизмеримо больше значения, чем привычные к статьям о них писатели или политические деятели. Он с наслаждением мог перечитывать заметку в десять строк о том, что известным благотворителем Делаваром пожертвовано пятьсот тысяч франков на такое-то доброе дело. Раз в какой-то темной газетке его назвали темным финансистом. Ему в голову не пришло усомниться, что заметка имела целью шантаж. Вопрос был: кто хочет денег, издатель или репортер, и надо ли дать деньги или нет? Некоторые финансисты в таких случаях платили. Немного поколебавшись, он решил не платить: о Наполеоне писали и не такие вещи. С легкой тревогой ждал продолжения заметок в газете и был несколько разочарован, когда больше ничего не появилось.
Жизнь его была почти всецело построена на тщеславии, и потому была счастлива; по тщеславию он был убежден в том, что все, даже враги, даже шантажисты, считают его гениальным человеком, а это убеждение укрепляло в нем тщеславие. Любую неприятность и любое несчастие он мог объяснить себе так, что удовольствие от них с ними мирило. Он любил радости жизни, но и они были у него сплетены с тщеславием так тесно, что никто не мог бы сказать, где начинается одно, где кончается другое. У него было немало любовниц и он много пил, но очень и это преувеличивал, – ему нравилась репутация кутилы. Из-за тщеславия же в его жизни занимали некоторое, правда небольшое, место и идеи. Он не интересовался литературой и ничего не понимал в искусстве, но делал вид, будто интересуется ими чрезвычайно. Некоторые из его знакомых говорили, что он «человек двух плоскостей», хотя это объяснение ничего не объясняло, да и было бы столь же верно в отношении большинства людей. Иногда Делавар говорил и не только о себе, но тогда говорил без интереса.