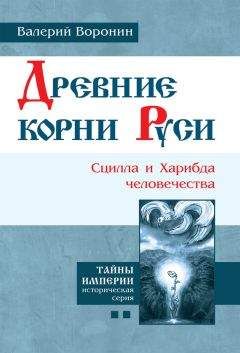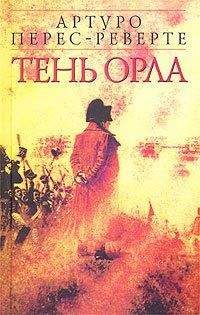Николай Платонов - Курбский
«Не только на поле, но и здесь я послужу тебе, Боже!»
Он писал письма — учил и спорил с ревностью о правоте веры. Он считал это занятие — богоучительство — более важным и нужным делом, чем свое воинское искусство. Потому что, как он думал, всякое духовное действие во имя православия всегда выше всякого земного действия, всякой ручной, телесной работы. Поэтому он учил без всяких сомнений не только своих мирских знакомых и друзей, но и лиц духовных, вроде старца Псково-Печорского монастыря Васьяна Муромцева:
«…Писал к игумену и к вам в монастырь посылал человека своего с поклоном, но презрели меня, а вины своей явной перед вами не знаю, имел долг, но уплатил, а теперь и не хотел одолжаться у вашего преподобия… Какие только я напасти и гонения не претерпел! Многократно в бедах своих и к архиерею, и к вашему преподобию припадал в слезах со словами о сострадании и никакой малейшей помощи не получил. Но этого мало: не стыдясь Бога, прозывают меня еретиком и ложными наветами клевещут на меня великодержавному слуху царскому…»
Марка, ученика Артемия Троицкого, Курбский просил помочь в переводе с латинского на славянский сочинений Василия Великого. Марк был незнатен, но Курбский, князь знаменитый, его просил смиренно, а бургомистру Вильно Кузьме Мамоничу писал сурово:
«…Писали мне о хитростях иезуитских, но я уже отвечал: не ужасайтесь их софизмов, но крепко стойте в православной вере, будьте бодры и трезвы умом, как верховный апостол Петр наказал… Злыми хитростями своими погубят супостаты восточную церковь! Но что они противопоставили церкви нашей? Книги свои растлили погаными силлогизмами и софизмами, разрушая апостольскую теологию… Я советую вам письмо мое это прочесть всему собору православному в Вильно… А если будете лежать в обычном пьянстве, то не только иезуиты и пресвитеры римской церкви вас растерзают лежащих, но и хуже — новоявленного безумия еретики, от чего спаси вас Бог! Не унывайте и не отчаивайтесь, но изберите себе одного из пресвитеров, искусного в писаниях и словопрениях, и противьтесь с помощью непобедимого оружия, призвав на помощь пребезначальную Троицу!»
Когда он так писал, то чувствовал себя значительнее я нужнее людям, чем сидя на судейском кресле в своем ковельском замке.
В начале зимы неизвестно кто убил урядника Миляновичей Василия Калиновского. Новым урядником Курбский поставил хитроватого и хозяйственного Меркурия Невклюдова.
4
В Миляновичи пришел вызов в Вильно на суд по делу незаконно заключенного договора со свободным подданным Речи Посполитой Кузьмой Порыдубским. За неявку в суд указ, подписанный канцлером и скрепленный печатью самого Стефана Батория, грозил лишением прав на земли и наместничества в ковельском имении.
Никто еще не разговаривал с Курбским таким языком. От обиды и гнева он хотел сначала запереть ворота и письма не принимать, но Мария отговорила его:
— Ты не знаешь хорошо нового короля, а я слышала от Радзивиллов и от Слуцких, что он не Сигизмунд, он расправляется с ослушниками беспощадно. Ты помнишь Малиновского из Сандомирского старостата? Еще в Варшаве мы были у него в гостях? Так его за то, что не представил определенное число конницы и пехоты, судили, и сенат приговорил отнять у него старостатство, наложить арест на имение и оштрафовать на несколько тысяч.
Сам Курбский, отговорившись болезнью, не поехал в Вильно, а представителем своим послал ковельского городничего Кирилла Зубцовского. В январе, пробиваясь сквозь сугробы, Кирилл вернулся с постановлением суда: «Возвратить Кузьме Порыдубскому землю и имущество, за тюремное заключение вознаградить и впредь оставить его в покое как королевского слугу». Порыдубский получил особую охранную грамоту короля и въехал в свой дом, где не был около шести лет, а человека Курбского, который там жил, выгнал с семьей и грозился убить, если тот сунется обратно. Курбский, узнав, затрясся от гнева, велел седлать, вооружаться, разбил дорогой венецианский бокал, изорвал королевский лист. Но Кирилл привез из Вильно и письмо от старого Григория Ходкевича, в котором тот по-дружески, хоть он мог и приказать, предупреждал Курбского, чтобы тот не противился ни в чем воле Стефана, потому что король гневен на него и решителен: в полевом лагере под Венденом казнены по его приказу два дезертира, он приказал заключить в замок трех знатных шляхтичей. «Не строптивься, пан Андрей, — писал старик гетман, — новые настали времена, и может быть, и к лучшему — сам знаешь, как наша вольница расшатала порядок и в войске, и в государстве. Планы короля великие, в феврале на сейме всё узнаем, а сейчас выезжай к нам, болезнями не отговаривайся и людей представь сполна в полном порядке при оружии и припасах, как ты сам, воитель опытный, знаешь…»
После Крещения в санях, закутавшись в волчью полость, Курбский выехал в Вильно.
Вильно был забит войсками и шляхтой, приехавшей на сейм. Снег по дорогам и улицам истоптали, смешали с грязью, но на крышах, на кровлях башен и зубцах стен снег белел в голубоватом свете низкого неба нетронуто и отрешенно от людских дел. Тучи грачей с карканьем кружили над вязами городского парка, дым от очагов разносил запахи мясной похлебки. Стаи одичавших собак по ночам рыскали на окраинах — они пришли вслед за войсковыми обозами. А за собаками, говорят, потянулись из лесов и волки, и в двух-трех верстах от города в одиночку потемну было ездить опасно.
Первое, что узнал Курбский у Григория Ходкевича, было: Александр Полубенский попал в плен, но ведутся переговоры и его должны обменять на какого-то русского боярина. «Не на меня ли?» — подумал Курбский. Ходкевич не менялся — такой же седокудрый, обветренный, долгоносый, он хитро щурил стариковский глаз, шевелил бровями, говорил хрипло, грубо:
— Настало время наши земли исконные у московитов отобрать. Ты не гляди, что мы в Ливонии столько отдали: король не велел мне за их замки людей терять, мы всё стянули к границе, ждем немецкой и венгерской пехоты, пушек новых легких ждем, все войско король меняет, хочет сделать как у французов или голландцев — ядро постоянное, не по доброй только воле, но по договору и за деньги, но зато всегда при войске будем, кланяться и бегать за шляхтой не будем и в поле, как у шведов, можем тягаться с любым врагом…
Курбский слушал, вникал, а интереса почему-то не было, хоть он и сам раньше говорил за такой порядок и завидовал выучке немецких кнехтов и дальнобойности английских пушек.
— …Приходи сегодня вечером, — говорил Ходасевич. — Я хоть и наместник Ливонии, но сижу в Вильно уже два месяца — король велел новую роспись сделать воинской повинности по всем литовским землям. Думаю, он еще себя покажет!.. — И гетман задумчиво потянул себя за ус.
— Где ставка короля? — спросил Курбский. — Я должен к нему явиться?
— Нет, ты под моим началом. Богуш Корецкий про тебя спрашивал и Тимофей Тетерин. Он теперь полковник стрелецкий, как у вас говорят, а по-нашему — ротмистр панцирных аркебузиров.
«По-нашему, по-вашему, — думал Курбский, хмурясь, — четырнадцать лет прошло, а все не забывают, что я перебежчик. Но кто посмеет так меня назвать?!»
Ходкевич не об этом думал:
— Как панна Мария? Не забуду я тот полонез с нею! Повезло тебе, Андрей: ты вон поисхудал, с лица спал — все не угомонишься! — И старик захохотал.
Курбский жил в доме Острожского: хотя самого хозяина и не было, но смотритель усадьбы, узнав о приезде князя, пришел и сказал, что получил приказ отвести ему комнату и кормить его и поить, пока он живет в Вильно. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей, — думал Курбский, вспоминая Константина, — А я так и не написал ему ничего, кроме того ругательного письма про еретика Мотовила…»
Царь Иван через полтора месяца снял осаду Ревеля, взять который не смог, и, оставив наместником Ливонии Магнуса, уехал в Александрову слободу[178]. В феврале был сейм, на котором Стефан Баторий обещал литовцам вернуть все их земли вплоть до Великих Лук, взять Полоцк и Псков и освободить Ливонию. Ключом к Ливонии был Полоцк, и после сейма на тайном совете было решено начать с него, а для отвода глаз отобрать обратно крепость Венден. Пока послы Батория в Московии торговались о вечном мире, хорошо вооруженная армия, подтянув артиллерию и обозы, заняла Венден, оставленный царскими войсками. Здесь поляки соединились со шведами, от которых узнали, что русская армия, выслав вперед татарскую разведку, спешит к городу. Баторий приказал идти навстречу, татарская конница не выдержала удара тяжелой шведской кавалерии, русские окопались за тыном в полевом лагере, выкатили пушки и дотемна отстреливались, но ночью бояре — четверо воевод: князь Иван Голицын, Федор Шереметев, князь Андрей Палецкий[179] и Андрей Щелкалов — бежали, бросив все. Другие сотники и воеводы не бежали, но утром сдались. Не сдались пушкари — все повесились на дулах орудий, и заря осветила их белые лица, на которые с ужасом и уважением смотрели подошедшие вражеские полки.