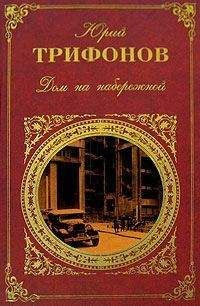Игорь Гергенрёдер - Донесённое от обиженных
Помня о подчёркнутой распространённости типа, взглянем на отдельные портреты. В рассказе Толстого «Божеское и человеческое», основанном на фактах, читаем о генерал-губернаторе Южного края: «здоровый немец с опущенными книзу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом». Его прототип Тотлебен в 1879 отправил на виселицу троих народовольцев, обвинявшихся в подготовке покушения на Александра Второго. У Толстого есть слова, которые стоит перечитать и задуматься. Утвердивший приговор немец вспомнил «чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю».
Тургенев тоже взял подлинный случай из жизни и написал повесть «Постоялый двор». В ней фигурирует помещица-немка, владеющая крепостным человеком Акимом, который трудами-стараньями построил постоялый двор, и дело пошло очень хорошо. Но помещица отняла двор и продала, а Акиму велела вынести три рубля, да и тех ему не передали.
В рассказе Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова» капитан Венцель, убеждённый, что есть только одно средство быть понятым русскими солдатами — кулак, — избивает их до полусмерти, выделяясь лютостью среди офицеров. Солдаты, переделав его фамилию на свой лад, за глаза зовут его «Немцевым».
Не пронзителен ли тот же мотив в явлении русской классики — рассказе Григоровича «Гуттаперчевый мальчик»? Кто так жесток с мальчиком-учеником (рабом фактически) и заставляет его выполнять цирковые смертельные трюки — до того, последнего?.. Акробат-немец.
У Куприна в «Конокрадах» немец-колонист отрубил у попавшегося незадачливого вора пальцы на обеих руках, приговаривая: «Не воруй, коли не умеешь». Это — в конце девятнадцатого века! Эпизод поразителен тем, что предоставляет поразмышлять не столько о жестокости немца (уже читали), сколько о том — кем он осознавал и чувствовал себя в Российской империи. И ведь не обманывался — о его наказании и мысли не было. Как не было бы у него самого мысли в Германии учинить подобный самосуд — за него пришлось бы отвечать по закону.
Так чем возразить на то, что немцу в России было вольготнее?..
Имел, имел Прокл Петрович основания горячиться, говоря о русской смуте и Голштинском Доме.
46
Мысли тестя заставили бы Лабинцова воспринять их иначе, будь они преподаны человеком, принадлежащим к учёному миру. Но то, что «идеи» высказывал «доморощенный философ», не располагало инженера к глубине размышлений над ними, не побуждало отвлечься от значимости собственного понимания вещей. Он, однако, не мог не замечать нового, меткого и бесспорного в рассуждениях отставного хорунжего, и это подспудно смущало, хотя Семён Кириллович ни в коем случае не согласился бы, что задевается его самолюбие. Взяв позу доброжелательно-иронического внимания, он выслушивал очередной довод и, участливо кивнув, произносил:
— Интересно подмечено, да только за деревьями не видно леса.
Прокл Петрович, вскипев, преподносил что-нибудь особенно убедительное, но зять отвечал всё с тем же мирно-обезоруживающим упрямством:
— Не спорю. Но, прошу прощения, ты повторяешься. — Дождавшись момента, Семён Кириллович выдвигал свою систему взглядов: — Наша история, с её чудовищным смешением противоречий, намного сложнее, чем можно себе представить при недостаточном изучении… Вопиющее самовластие укоренено у нас во времена Орды, и потому наши города развивались не как узловые промышленно-торговые пункты, а как цитадели власти над окрестным людом, власти насилия и произвола. Они, города, так и остались, по сути, гнездовьями чиновничества, и в них не выработалась сознательная сплочённость населения. У тех же немцев и поучиться бы, как бюргеры завоёвывали свои свободы и давным-давно добились, чтобы верховная власть относилась к ним не без уважения…
— Немцы-колонисты не могли пожаловаться на неуважение царской власти, — вставил Прокл Петрович; он и зять чаёвничали вдвоём. — Колонистов у нас — два миллиона, а полтора века назад не было и десятка тысяч. Скажешь — это не колонизация? Ну тогда скажи: возможен в России такой порядок, когда русская деревня получила бы те права, те условия жизни, которые имело у нас немецкое село?
Лабинцов помешал в стакане резной посеребрённой ложечкой и отхлебнул чаю:
— Ты так и видишь национальные пристрастия! Это держит тебя в плену. Как же, однако, быть с тем, что царь не воздержался от войны с Германией?
Байбарин кивнул, как кивал на его доводы зять:
— Войны бывали и между германскими государствами и не столь уж давно. Внутрисемейная борьба за главенство! И к этой большой войне, не сомневаюсь, подтолкнули семейные счёты, но здесь надо ещё покопаться… Как бы то ни было, они свою роль сыграли, но главным явилось другое. Царь почёл выгодным подыграть национальному чувству в обществе.
Хорунжий поднёс к губам стакан чая, с выражением внимательности сделал глоток и причмокнул, словно от необыкновенного удовольствия:
— Почему наша образованная и полуобразованная публика — от профессоров и думских ораторов до школьных учителей и почтовых служащих — так воспылала противогерманским возмущением? Где был её патриотизм в войну с Японией? Питерские студенты, по случаю японских побед, даже поздравление отправили микадо… Зато уж с Германией — брать Берлин и никаких! В Питере, в Москве беккеровские рояли выбрасывали из магазинов со второго этажа! Сторожа-старика, что в германском посольстве был оставлен, забили дубинками, о чём газеты сообщили с гордостью.
Ты же сам наблюдал это, — продолжал Прокл Петрович, лишая зятя повода для несогласия. — Патриоты, куда ни глянь, клокотали яростью, как горшки в печи. А допрежь того: как приветствовалось сближение с Францией — Германии в пику? Те же французы и англичане Севастополь у нас забирали, и об этой их славе напоминает в Париже Севастопольский бульвар. Наполеон Москву навестил — а когда к нам вторгались немцы? Последняя война с ними была при Елизавете — да и то далековато от русских земель.
Хорунжий взыскующе взирал на Лабинцова:
— Как и откуда оно произрастало — стойкое озлобление на немцев? Чем Германия уедала Россию да так, что ни одна страна, считая и побившую нас Японию, не вызывала эдакого бурления страстей?..
Умолкнув на миг, Байбарин проговорил с печальной укоризной:
— Разве же не понятно, разве не очевидно, что Германия расплачивалась за наших, за российских немцев? Они из поколения в поколение говорили в сёлах только на своём языке — германские собственники нашей земли, жители германских оазисов. Они гордились своими колбасами и ветчиной, пивом и тминной водкой, открыто кичились перед русскими тем, что они — немцы. Как же было не оскорбиться русскому национальному чувству? Возмущение обратилось на Германию, откуда текли и текли к нам её ухватистые детки…
В силу этого, считал хорунжий, укрепилось представление о Германии как о вселенском Зле, распространилась убеждённость в роковой немецкой угрозе, в том, что Германия готовится подмять Россию, уже разведанную, облюбованную и обжитую немцами. Прокл Петрович присовокупил: общий настрой обостряло застарелое негодование из-за того, что немцы особенно отличаемы в армии и на флоте.
Русские генералы и честолюбивые, стремившиеся к власти деятели Думы понимали: война с Германией окажется дорогой в западню для монарха голштинской династии. Вот что делало эту войну Великой необходимостью!
Царь, при поощрительном воодушевлении близких ему лиц, не менее умных, чем он, решил, что блестяще выиграет, неопровержимо доказав свой русский патриотизм, — ежели поплывёт на волне. И поплыл — словно щука в плетёный вентерь. В февральские часы он оказался один перед тем, чем сделался выпущенный из бутылки джинн: ненависть к немцам. Царю предложили: или отречение, или будет обнародовано, что он — фон Гольштейн-Готторп. В этом случае генералы-русаки арестовали бы и его, и немцев свиты…[25]
Слушая тестя, Семён Кириллович думал: «Одно втемяшилось колом, и всё остальное на привязи, от кола — никуда».
— Ты себе же противоречишь, — сказал он устало. — Войну прежде осуждал и теперь ура-патриотизм выбранил, кажется, — а с тем и оправдал.
Прокл Петрович, осерчав, помотал головой:
— Я не оправдываю войну! Я объясняю, что к ней вёл всё тот же обман с династией! Если бы не он, народ знал бы — виноваты не Германия и даже не наши российские немцы. Не будь веры в то, что на престоле — русский царь-батюшка, россияне давно бы поднялись на борьбу против коронованных иноземцев.
Семён Кириллович, внушительно отчеканивая слова, произнёс:
— Сегодня страну раздирает классовая борьба.
— До неё бы не дошло, да и не совсем она — классовая… к Февралю привела национально-освободительная борьба! — настырно продолжил своё тесть, но скоро оба обескураженно присмирели.