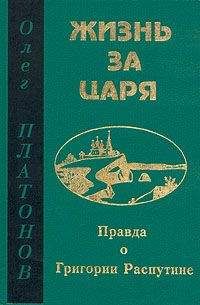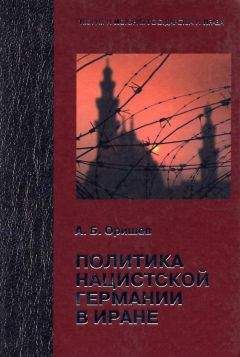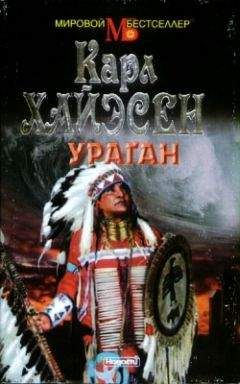Теодор Парницкий - Аэций, последний римлянин
— Отче… А я отхожу помилованным?
Епископ ничего не ответил. Рыдания лишили его голоса, слезы белым туманом заволокли старческие глаза, жадно взирающие на смерть солдата. Он только кивнул головой.
Тогда Бонифаций поднял глаза к сияющей над перистилем солнечной лазури и, сложив руки на груди, прошептал:
— Какие же святые и правдивые были твои слова, мудрейший Августин… Воистину, до тех пор не познает сердце наше покоя, пока не упокоится в тебе, господи!
Двойная победа
Длинной и утомительной была обычно дорога от церкви святой Агаты до великолепной инсулы, которую поднесли еще Бонифацию в дар три набожные вдовы из знатного рода Наулинов вскоре после прибытия его из Африки, желая таким образом почтить его ревностность в вере. Но в этот день Пелагия, следуя в лектике, которую несли четыре привезенных ею из родных краев нумидийца, казалось, вовсе не замечала расстояния — настолько ее поглотили размышления над тем, что она видела и слышала в церкви. У священника, который совершал заключительное благословение во имя подобосущного отцу Христа искупителя, был и вид и голос препозита из аукенлариев. Но диакон!.. Разве не был он похож на архангела Рафаила, каким она видела его на диптихах?! Он тоже был гот — но так мало в нем было всего, что в ее понятии неразрывно связывалось с типом гота! Скорее уж по виду — если бы не эти голубые глаза и золотистые волосы — один из тех греческих или египетских священников и монахов, которыми закишела последнее время Италия и которые проповедуют новое и непонятное для Пелагии учение, что дева Мария была матерью не только Христа-человека, но и матерью бога… Но что особенно затронуло в тот день ум и душу Пелагии, так это с детства любимая евангельская притча о сеятеле, которую она сегодня услышала впервые на готском языке. Как же молодой диакон не походил ни в чем ни на Сигизвульта, ни на одного из его солдат. И в падающих с амвона словах евангелия, переведенного на готский епископом Ульфилом, — непонятных и все же полных какого-то дивного очарования — ничто не напоминало Пелагии тех готских приказов и окриков, к которым привыкло ее ухо за время осады Гиппона. Она чувствовала себя счастливой и гордой, что именно ее вера — ненавидимое и поносимое здесь, в Италии, учение Ария — провозглашает слово божье не только на языке римлян, но и языком варваров… «Совсем как апостолы, что сразу говорили на разных языках!» — думала она в восторге, не подозревая, что через минуту ее ждет новая радость, уже иного рода, хотя проистекающая из того же самого источника.
Когда лектика свернет с Аргилета на улицу Патрициус, взгляд Пелагии заметит большую мраморную плиту с золотой надписью. Тихий хлопок в ладони — и тут же замрут черные нумидийцы. Ее маленькие руки с дрожью раздергивают укрывающие лектику завесы: святая Агата, неужели действительно возможно такое счастье?! Пелагия не верит собственным глазам… Она читает надпись десять… пятнадцать… двадцать раз… А когда велит отправляться дальше, то на каждом углу, на каждом перекрестке, под каждым портиком вновь будет звучать повелительный хлопок: стойте! Потому что до самого дома с каждого перекрестка, из-под каждого портика бьет в глаза одна радостная весть-весть, гласящая, что на близящийся новый год — десятый год счастливого царствования великого Валентиниана Августа — консулом Западной империи будет провозглашен сиятельный Флавий Ардабур Аспар… Аспар — человек ее веры… пожалуй, первый со времен Констанция Второго консул-арианин! Чувство беспредельного счастья и гордости наполнило душу Пелагии.
С тех пор как она стала вдовой, еще больше возросли ее набожность и ревностность в делах веры. Хотя она искренне оплакивала Бонифация и упрекала себя в том, что лишь после смерти оценила все величие и благородство его души, но ведь не могла же она, особенно в период возросшей набожности, не изведать чувства какого-то облегчения при мысли о том, что наконец-то борьба закончилась и уже никто не возмутит спокойствия ее духа, никто не воспрепятствует ей в самом важном деле: в воспитании дочери по учению Ария. Жила она замкнуто, в полном уединении, необычайно скромно, несмотря на то, что считалась одной из самых богатых женщин империи и действительно была ею. Но вторжение Гензериха в Африку лишило ее всякой связи со своими владениями; а то, что имелось у нее в Италии, хотя все еще делало ее предметом всеобщей зависти, никак не являлось тем, что — по словам умирающего Бонифация — было необходимым спасающему римский мир Аэцию…
Об этом своем женихе — как она иногда с грустной улыбкой называла его в разговорах с самой собой — она думала удивительно мало, а последнее время почти не думала. Не знала, где он, что с ним. Наверное, нет уже в живых. В тот день, когда Аспар будет провозглашен консулом, исполнится год и четыре месяца с той поры, когда она имела последнюю весть об Аэции. Он бежал за Адриатику на маленькой старой галере… бурной, ужасной ночью… И может быть, как раз тогда и погиб?! Бежал, не отвоевав Бонифациева наследия, всеми покинутый, побежденный, чуть ли не обезумевший от стыда и отчаянья… преследуемый, как самый дикий, опасный зверь! Ненависть к Аэцию оказалась в Плацидии сильнее, чем дружба к умершему комесу Африки. Она преступила последнюю волю Бонифация. Того, кого он нарек своим преемником, она объявила врагом империи и римского мира… Конфисковала его имущество… Требовала его головы и публичного позора. Сигизвульт и на сей раз сохранил ей верность: италийские войска не устремились в бой для защиты последней воли Бонифация. Астурия же от этих дел отделяло море, Пиренеи, Альпы и яростные битвы со свевами. Дабы почтить мертвого друга, Плацидия нарекла патрицием его молодого зятя: она заранее была уверена, что Себастьян будет только слепым ее орудием… Дождалась наконец-то чаемой минуты: она действительно самовластная и единственная! Друзей и сторонников Аэция она лишила чести, должностей, влияния; honesta missio[59] коснулась и — спустя неполных два года его службы — префекта претория Флавиана. В сенате она умышленно при каждом случае подчеркивала вопросы религии, стремясь таким образом противопоставить христианские роды дружественным Аэцию Симмахам и Вириям. Басса, несмотря на большой вес, который он имел, она отстранила от дел, зато всячески поддерживала Петрония Максима, именовав его консулом сразу же после Аэция. Консульство Аэция шло единственной уступкой, которую она сделала его сторонникам и всем требующим исполнения последней воли Бонифация: имени преследуемого бунтовщика не вычеркнули из списка консуляров, а бюсты с широким, грубым лицом украшали все общественные места еще и тогда, когда о том, кого они представляли, уже пропал всякий слух.
«Вот и не сбудется воля Бонифация… не будет Аэций мужем самой богатой землевладелицы Африки… не будет и salus rei publicae Occidentalis», — твердила про себя Пелагия, когда еще, бывало, обращалась мыслями к последним минутам умирающего мужа и к клятве, которую она ему дала. Ведь она же поклялась. И действительно, если бы Аэций вернулся и напомнил о своем праве, она, пожалуй, согласилась бы стать его женой. Но предпочитала, чтобы он не возвращался, а то вновь началась бы борьба из-за детей, которые появились бы, из-за их крещения и воспитания…
Только так она о нем и думала. А если иначе, то, пожалуй что, с сочувствием, которое выражают малоизвестным людям — тем, что умерли, не изведав радости и счастья, за которое всю жизнь боролись. Закончились res gestae[60] Аэция, причем закончились куда лучше и благополучней, чем могли бы закончиться. Разве мало таких людей, о которых напишут хронисты: «Скончался во время своего консульства»?!
Когда лектика, несущая Пелагию из церкви святой Агаты, остановилась наконец перед действительно красивейшей в городе инсулой, майордом, который давно уже с нетерпением ожидал возвращения своей госпожи, торопливо подошел к ней и, согнувшись в низком поклоне, сказал:
— Какой-то благородный муж вот уже час ожидает тебя в атриуме, о достойнейшая! Совершенно не известный никому из домашних…
Удивленная, она поспешила в атриум, предшествуемая майордомом и двумя арианскими диакониссами, которые постоянно жили в ее доме и без которых она никогда не показывалась гостям. На ходу она тщетно пыталась угадать, кого через минуту увидит. Может быть, кто-нибудь из Африки? А может?.. Сердце резко заколотилось, и лицо побледнело от волнения: может быть, это сам святой епископ Максимин, до которого, наверное, уже дошла весть о ее ревностном почитании своей веры и который прибыл, чтобы лично дать ей благословение… Даже ноги подогнулись — воистину, неужели она могла ожидать чего-то большего?!
Благородный муж, однако, оказался, к великому удивлению Пелагии, абсолютно незнакомым юнцом, который — как только она появилась в двери — быстро вскочил с каменной скамьи и отвесил поклон, почтительный, но лишенный всякой униженности. Как бы то ни было, фигура у него действительно гордая и почти благородная, кроме того, он был вовсе даже недурен — с первого взгляда показался было Пелагии смешным: было в нем что-то от того, что в подрастающих юнцах страшно смешит их ровесниц. Но прежде чем она успела осознать, что бы это могло быть, она услышала голос, также очень молодой: