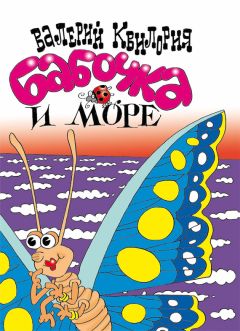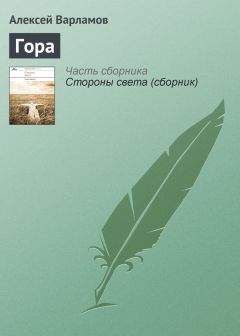Гарольд Лэмб - Феодора. Циркачка на троне
Юстиниан до последнего пытался сдержать распространение болезни. Врачи не знали лекарств, и каждый предлагал что-то своё. Военные патрули высылались из дворца, а деньги из казны распределялись на еду. Корабли с припасами больше не приходили в гавань. Некоторое время канавы за стенами города служили в качестве могил, затем чиновник, ответственный за захоронения, приказал бросать тела в башни укреплений у гавани. Когда дул ветер, зловоние доносилось до города. Через некоторое время солдаты доложили, что в день хоронят по пять тысяч тел.
Болезнь, казалось, должна пойти на убыль, но она свирепствовала ещё два месяца, и в конце концов около половины населения города погибло от чумы. Несмотря на настойчивые просьбы Феодоры и Нарсеса, Юстиниан отказался покинуть дворец.
Гирон, спрятавшийся среди садов у воды, стал свидетелем всего нескольких смертей. Но забитые людьми лабиринты Священного дворца стали кошмаром наяву. Жалующаяся толпа стояла у медных ворот, моля императора о помощи. Мраморные скамьи Августеона опустели. В коридорах стражники тщетно напрягали зрение, пытаясь увидеть хотя бы тень призрачных демонов, которые набрасывались на свои жертвы.
Юстиниан обнаружил, что толпа успокаивалась, увидев его. Император всегда выступал в роли марионеточной фигуры, наряженной в царственные одежды и вознесённой над толпой, не знавшей о Петре Саббатии, человеке. Она узнавала только монарха в диадеме, сверкающего, словно архангел.
Понимая это, Юстиниан долгими часами просиживал в зале для аудиенций, днём в определённый час он выходил из дверей, без диадемы, окуренный ладаном, и шёл через толпу к плачущим людям у портика Великой церкви за патриархом к своему месту под песнопения Трисагиона. Он слышал боль в людских голосах: «Дай хлеб своему народу, изгони демонов ада, которые наводнили город. Бог видит, мы достаточно страдали. Трижды августейший, помоги!»
Сидя на троне, Юстиниан делал всё, что в его силах.
Дни пугали Феодору. Покидая дворец после долгой церемонии в Великой церкви, она садилась в свою укрытую шатром баржу и направлялась в свой дом. Приглушённые голоса женщин, лёгкий массаж, свежий запах даров земли приносили облегчение. Гонцы с острова сообщали, что её маленький внук здоров и не встречается с беженцами из города. Ей казалось, что, каждый день переплывая на другой берег, она избегала смерти. Феодоре не хотелось возвращаться. В Гироне, созданном её волей, где каждая цветочная ваза и жаровня были сделаны в её вкусе, императрица замыкалась в себе. Она не могла понять, что с ней происходит. Словно вернулись давние дни на ипподроме, когда никто не защищал и не хотел нанимать клоуна Феодору. Анфимий только качал головой. Не важно, где она находится, думал он. В пустыне из скалы могла забить вода, облако могло дать укрытие, а огонь — свет ночью.
Когда от Нарсеса прибыл гонец с сообщением о болезни Юстиниана, Феодора удалилась в свою спальню побыть наедине перед алебастровым экраном окна. В мягком голубоватом свете от лёгких шёлковых занавесок она наслаждалась желанным покоем. После этого Феодора приказала своим служанкам празднично одеть её, но без диадемы, драгоценностей и вуали. Она решила возвратиться во дворец Дафны.
Там она села у постели Юстиниана.
На третий день стало ясно, что император поправится. Он был в бессознательном состоянии, опухоль прорвалась, а кожа стала влажной, а не сухой, как обычно при лихорадке. Нарсес, словно печальная собака ждущий в углу комнаты, свернулся калачиком и заснул.
Каждый день Феодора занимала место Юстиниана в процессии, идущей к Великой церкви. Как и он, она слушала жалобы людей. Пока они лицезрели власть императора, у них оставалась безумная надежда, хотя тела тысячами продолжали сносить в заброшенный пригород.
Юстиниан медленно поправлялся. От болезни пострадали его речь и память. Сплетни и новости, связанные с ним и Феодорой, быстро просочились на улицы. Говорили, что императрица призвала безумного отшельника, который заколдовал Юстиниана, лишив его возможности думать и говорить. «Она не дала жизни ребёнку, — прибавляли женщины, — на неё должен пасть гнев Божий».
Когда дань смерти упала до трёх тысяч человек в день, Феодора отправила гонцов на улицы с вестью о том, что болезнь пошла на убыль, а Юстиниан поправляется. Она открыла ипподром, где выступили хоры, танцовщицы и клоуны. Наконец наступил день, когда Феодора с Юстинианом вышли в императорскую ложу, удивив толпу на ипподроме. Во время буйного взрыва радости кое-кто заметил, что Юстиниан молчал, едва двигался, и его быстро увели.
«Он будет принимать приветствия иностранных послов, командующих и просителей в утренние часы, — заверила Феодора взволнованного начальника департаментов. — Потом мы вместе будем рассматривать их просьбы. Мы обещаем, что Август затронет все вопросы, и на следующий день даст ответы». Это было вполне возможно, поскольку Юстиниану оставалось только сидеть на троне, затянутом парами ладана, в то время как к его ногам будут безмолвно припадать просители. Затем перед ним опустят занавес, а его отнесут в постель.
Феодора мало спала. Никогда прежде у неё не было столько дел, никогда не приходилось так много притворяться. В часы дневной трапезы у триклиния она льстила послу звероподобных аваров, который принёс серебряные талисманы и ожидал, что его завалят золотом; она могла быть безжалостной к блаженным франкским священникам, а затем благосклонно слушать миссионеров из Колхиды, выступавших против не завершённой Юстинианом войны, или соревноваться в остроумии с одетым в шелка персидским сатрапом, который каждый отказ принимал как неуважение к шахиншаху, а сам тем временем плёл интриги, чтобы добиться желаемого.
Затем начались волнения. Пётр Барсимей, хитрый сириец, занявший место Иоанна из Каппадокии, пожаловался, что командующие в Италии использовали свои войска для захвата собственности граждан: её требовал в уплату налогов экономист, Александр Ножницы; в Александрии, после того как кончилась эпидемия чумы, безумный «возрожденец» увлёк за собой толпы, предсказывая конец света.
Ужасный призрак голода стоял над миром.
Пухлое лицо человека средних лет, который в молчаливом благоговении глядел на неё, показалось Феодоре смутно знакомым. Это был купец Козьма. Она прервала его долгое приветствие:
— Добродетельный Козьма, нашёл ли ты гору солнца?
Он с удивлением воззрился на прекрасную императрицу. Нет, ему это не удалось, объяснил Козьма, но он путешествовал к горам в устье Нила, его глаза узрели жутких жирафов и морских драконов. Очевидно, купец не узнал Феодору. Теперь на нём была монашеская ряса.
— Подумать только, я узнал, какой формы земля! — воскликнул он.
— Где тебе это удалось?
— Здесь, в сокровищнице, я созерцаю её христианскую форму. Она определённо плоская, как золотой стол храма в Иерусалиме, а звёзды освещают её сверху, словно пламя свечи. А волнистые линии по краям святого стола, — восторженно добавил Козьма, — признак океана, окружающего нас.
Вечером после ванны Феодора садилась у постели больного супруга, рассказывая ему о событиях прошедшего дня, а Нарсес напряжённо слушал. Хотя Юстиниан с трудом говорил, но хорошо помнил все детали. Постепенно она научилась по интонации угадывать его мысли.
— Петра, — снова и снова повторял Юстиниан. Скала. Морской порт Кавказа. Её нужно вернуть и освободить кавказские перевалы от персидского контроля. И это в тот момент, когда Пётр Барсимей решил задержать плату солдатам на итальянском фронте.
— Святой Виталий, — прошептал он, указывая на мозаичное небо на потолке. — Церковь Святого Виталия в Равенне.
Было приказано лишить её мозаики, изображающей религию Теодориха и готов-ариан. Юстиниан хотел, чтобы на стенах повесили изображения его самого и императрицы. Больной пухлым пальцем лукаво коснулся лица Феодоры, прошептав что-то насчёт дара. Дара для неё? Он повторял, пока она не поняла. Он уже давно не называл её «мой дар».
Время шло, и Нарсес с Феодорой поняли: пока Юстиниан набирается сил, его мозг угасает. Хотя его мысли казались цепкими, как всегда, но ушла напряжённая работа мозга. Он неохотно выходил из спальни. Вместо того чтобы жадно читать, как прежде, он просил, чтобы ему почитала Феодора.
— Что, если он умрёт? — как-то осмелился спросить Нарсес, когда Юстиниан спал. — Кого поддержат армия и сенат: тебя или Белизария?
В ту ночь Феодора подписала приказ командующему армией возвращаться с востока.
Никто в империи не служил Юстиниану так безоговорочно и не питал такого отвращения к заговорам, как Белизарий. Но именно эта честность делала его опасным. Если бы император умер или стал недееспособным, прославленный солдат мог бы послушаться советов доброжелателей, которые сочтут его идеальной фигурой для императорского трона. Забавно, но именно войны, затеянные Юстинианом, открыли для Белизария возможность унаследовать трон. А у Антонины не нашлось бы жалости для овдовевшей императрицы. Феодора приняла быстрое решение. Перед прибытием командующего она призвала в Гирон офицера и устроила ему допрос. Она убедила его, что у неё есть сведения, будто он, солдат из старинной аристократической семьи, на востоке говорил о наместнике цезаря. Каком наместнике? И что они задумали? Удивлённый офицер уверял, что предметом разговора была эпидемия чумы, которая могла натворить бед в Константинополе. Затем он признал, что он и другие, но не Белизарий, согласились не принимать императора, избранного в городе без их ведома.