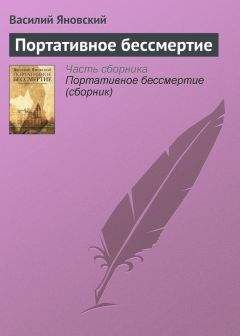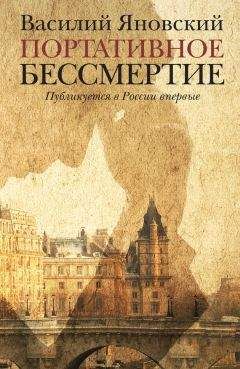Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Деньги, как всякий дар, можно тратить, но в меру и с толком. А если капитал собран не тобою, а предками, то он не принадлежит тебе целиком и должен быть передан дальше, достойному.
Алексей Толстой, человек очень шир-р-р-рокий , побывал в Англии и возмущался скупостью тамошних писателей: его угостили скудным обедом – демьяновой ухой наизнанку. То ли дело у нас в Москве.
Герцен, благородный, смелый, умнейший барин, Алешка Толстой – почти противоположность всего этого… Но «мелочность» англичан они порицают одинаково. Тут что-то странное и легкомысленное.
Кстати, в старину швейцарские крестьяне тоже оставляли в горных шалашах запас хлеба и дров для одиноких путников; а бретонцы клали на ночь за окно хлеб и рыбу для скрывающихся от правосудия.
Из всех наших философов больше всего внешне походил на профессора, разумеется, Степун. С Поволжья, немецкого или шведского происхождения, он представлял из себя чрезвычайно русское, исконное явление, как, вероятно, и Борис Пильняк.
Беспокойный дух, раздираемый многими противоречиями подсознания и подполья… Несмотря на дубравы классической философии, вокруг Степуна плавали сложные, ядовитые туманы декадентов.
Современник русского «серебряного века», посетитель Вячеслав-Ивановской «башни», ценитель «диалектического маятника» Гегеля, либерал, эстет, поручик, подобно Фету, и ученый, Федор Степун представлял из себя в Париже, куда он наезжал из сумрачной Германии, живописную смесь блеска, эрудиции, глубины и родного, весьма пугающего метафизического гнильца.
Федор Августович в эмиграции придерживался строгих христианских начал. Вместе с Фондаминским и Федотовым он принимал участие в построении «Нового Града», а также помогал редакторам «Современных записок» в их кропотливой работе… Это он «проводил» нового автора или статью религиозного философа, может быть, с «правым» уклоном, вопреки воплям Вишняка и Руднева.
Степун был не только кадровым профессором философии, но и талантливым беллетристом… С его мнением «Современные записки» очень считались. Цетлин вообще посвящал себя стихам, проза не была его стихией. Поэтический отдел «Записок» был исключительно хорош: все наши поэты в нем участвовали.
Впрочем, эмигрантская периодическая печать в целом относилась к стихам с сугубой нежностью. От рижского «Сегодня» до «Нового русского слова» в Нью-Йорке – повсюду тщательно набирали стихи Кнорринг, Червинской, Штейгера…
Но судьба прозы была совершенно иная. В прозе эсеры, эсдеки, кадеты и прочие правые-левые интеллигенты отлично разбирались, и советоваться с кем бы то ни было они не находили нужным. Здесь, как ни странно, преобладал метод, напоминающий жандармский: «Держи и не пущай».
Конечно, стихи портативны, отнимают мало места, их можно вставлять между очередным обзором неудачной пятилетки и разгоном легендарного Учредительного собрания вроде виньетки. К тому же ничего постыдного нет для старого либерала в признании, что он нынешних стихов не понимает: «Раз Адамович одобряет, мы печатаем!»
В прозе же, извините, Руднев и Слоним все постигли, их на мякине не проведешь. Вследствие этих особенностей, психологических главным образом, зарубежная проза несла и несет двойную нагрузку.
Фондаминский и все его близкие друзья помогали нам в меру сил и действительно постепенно к концу тридцатых годов протащили в «Современные записки» всю молодежь. В «Воле России» печатали тогда уже только переводы из Панаита Истрати.
Первую часть моего «Портативного бессмертия» я послал Фондаминскому для «Русских записок». Зензинов прочитал, но без определенного результата. К счастью, подвернулся Степун, которому Фондаминский передал рукопись… И вот мне вручили тысячу франков. Мой первый и, вероятно, последний «русский» аванс.
Вскоре Фондаминский ушел из «Русских записок», хозяином стал Милюков при секретаре М. Вишняке. Последний брезгливо жаловался: «Что за порядки? Как это можно раздавать такие авансы?..» Он критиковал Фондаминского и за «христианство», и за дружбу с «фашистами». О себе Вишняк мне с гордостью заявил, что каким он был в 1917 году, таким он останется навсегда, ни на йоту не меняясь. Мне это показалось чудовищной тратой жизни и времени.
Итак, благодаря вмешательству Степуна я получил тысячу франков, что позволило мне летом съездить в Эльзас. Вечером мы опять сидели за чайным столом Фондаминского. Зензинов сердито проходил из уборной в свою комнату; Степун, тяжело переступая узловатыми ногами, точно сдерживаемый коренник, стоял за своим стулом во главе стола и, размахивая то одной, то другой, казалось, тоже узловатою рукой, уже охрипшим голосом доказывал, что «недействие» в эмиграции тоже действие!
– Откройте скобки, поменяйте знаки на обратные, просверлите еще одну дырку в метафизической пустоте.
Моя тема «памяти» привлекла его внимание. И, должно быть, вспомнив эти наши ночные бдения, он двадцать лет спустя писал о повести «Челюсть эмигранта»:
«Одною из самых существенных, любимых мыслей Яновского представляется мне делаемое им различие между двумя образами памяти: линейной, которая сохраняет лишь то, что свершалось во внешнем мире, и вертикальной, которая как бы при вспышке молнии вспоминает очертания вырванных из второго мира предметов» (Новый журнал. 1958. № 54).
Особенно смачно Степун изображал своих современников, представляя в лицах то Алексея Толстого, то Вячеслава Иванова. Вообще, по-видимому, что не редкость среди русских писателей, он мог бы сделать удачную карьеру в театре.
За ночь Степун, начав с Учредительного собрания и Вишняка, секретаря оного, мог докатиться до Андрея Белого и его тяжбы с Рудольфом Штейнером, что не всем присутствующим нравилось.
Вероятно, вспомнив эту нашу русскую ночную беседу, Ф. Степун мне в 1958 году написал длиннейшее письмо, которое я сохранил. Вот отрывки изнего:
«В связи с основною религиозной темой меня заинтересовала Ваша близкая мне теория – двойной памяти. Конечно, жизнь протекает в необратимой временной последовательности, тем не менее ее углубленное изображение в хронологическом порядке – невозможно. Вы правы: линейная память бессильна справиться с этой задачей, потому что прошлое перестраивается в душе по вертикали, а потому и требует, как вы говорите, “вертикальной памяти”…
…Очень внятно и точно определение любви как “косой форточки в эсхатологию”. Очень хорошо и ново феноменологическое осмысливание краткого мгновения, когда человек, просыпаясь, не ориентируется в своей комнате, “как тайны отделения души от памяти”. В этих словах сразу приоткрывается проблема платоновской памяти и христианского бессмертия. С тайною отделения души от памяти связана и мысль, что в отличие “от всяких иных реальностей – смерть не имеет прошлого”. Не иметь прошлого – значит не иметь памяти»…
Да, такого рода беседы и письма вознаграждали нас за многие лишения.
Федор Августович лично встречал доктора Штейнера и любил рассказывать, смачно сюсюкая, как Андрей Белый однажды оборвал Штейнера, крикнув при свидетелях: “Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!” [77] Это я слышал и от Ходасевича.
Когда Гитлер пришел к власти, профессор Степун сразу подал в отставку, таким образом решительно отказавшись прямо или косвенно участвовать в немецких мифах.
Другие философы нас, пожалуй, меньше затрагивали. Франк появлялся у Фондаминского редко. Крупный, что называется, представительный мужчина, по внешности американский executive [78] , администратор, управляющий большого концерна. Таким же «крутым» директором выглядел и Карташев.
Франк читал в «Круге» доклад о Пушкине, препарировав его на свой салтык… По его мнению, следует различать два вида религиозного опыта: пророка, громовержца и тихого мистика, блаженного. Вот Пушкин, по схеме Франка, не был пророком, но был мистиком, что гораздо выше, духовнее разных «крестоносцев» или борцов за истину.
Мы возражали: «Гавриилиада» и бокалы, коими надлежит «залить горячий жир котлет», вряд ли совместимы с такого рода духовностью.
Определенно и всегда не нравился мне Вышеславцев, хотя он был очень популярен в ИМКЕ среди дам среднего и выше возраста. Большой, статный, длинноногий, с седеющими зеркальными висками… Правильный лоб, тяжелый скандинавский череп и, кажется, синие крупные глаза. Бог наградил его особенными, гибкими, показными бедрами, и он, стоя на эстраде, блистательно, холодно картавя о Святой Троице или Софии, премудрости Божией, кокетливо играл этими удачными бедрами, кладя то одну большую руку, то другую на свой гибкий стан. Играл тазом, но пожиже, еще Смоленский.
Во время оккупации Вышеславцев сотрудничал с немцами; ездил по странам русского рассеяния и что-то проповедовал относительно «нового порядка». Умер этот «рыцарь без страха и упрека» в Швейцарии, не решаясь вернуться в Париж и предстать перед французским судом.