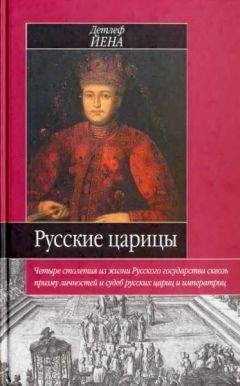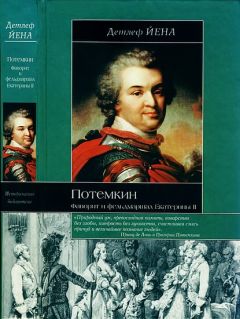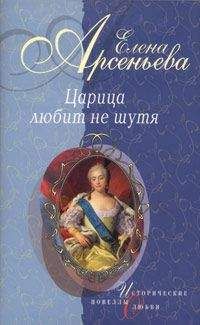Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
– Что ж, так и будешь стоять?
– Может, кто-нибудь перевезет, – вздохнула она. – Жаль, что у вас душегубки.
Андрей улыбнулся. Красивая головка, склоненная, как цветок «сна», немножко на сторону, приподнялась.
– А может… попробуем?
– Опрокинемся.
– Постараюсь не опрокинуть.
Она ступила шаг. Очень уж не хотелось на паром.
– Хорошо-о, – вздохнула она.
– Садись, Галинка, – сказал Андрей, почти поставив челн на песок. – Давай руку и садись спиной ко мне… вот так.
Осторожно оттолкнулся, словно тарелку с водой нес, погнал душегубку на другую сторону.
Вода несла их ровно-ровно, зеленая у берегов, бездонно-голубая на середине. Галинка сидела неподвижно, но Андрей видел – боялась.
– Ты только не вздумай труса праздновать, Кахнова Галинка, – мягко сказал он.
– Я… не буду, – ответила она тихо.
– Ну вот и хорошо. Ты лучше на берег смотри.
Он помог ей выйти из челна.
– Спасибо, – сказала она.
– Ничего, – сказал он и потому, что жаль было отпускать девчину, не сказав больше ничего, спросил: – Как у вас там горох сегодня?
– Сегодня у нас горох ничего, – ответила она. – Подсох, аж звенит.
– И у нас сегодня ничего, – сказал он. – Уколотный.
Помолчали.
– А песни у вас там, на выселках, играют?
– Играют.
– Надо будет зайти.
– Зайдите, ежели выберете время… Это же вы дядькованые братья нашего пана?
– Эге, вот и он там в челне плыл.
– Не знали мы, – сказала она. – Молчать надо было.
– Чего-о? Он хороший хлопчина. Может, и вместе когда зайдем. Он песни любит.
– О вас говорят – хорошо поете.
– Ат!
Он молча сидел в челне, глядя на нее.
– Так, говорите, хороший горох?… Это хорошо… Ну, бывайте уже. Хорошего вам праздника…
Алесь издали смотрел, как они разговаривали и как потом Андреев челн догонял их по спокойной воде. И все это было как продолжение его мыслей. Он не удивился бы, если б за первым же пригорком открылся глазам городок за частоколом, совсем как в одной дедовой книжке. И чтоб был в нем праздник, и чтоб горели дымные костры, чтоб были девы, подобные той, и отроки, подобные Андрею. Ведь эта же самая река была и за тысячу лет до их дней, те же берега и те же дубы на них. Он путает своих предков, а его далекие потомки будут путать его с Андреем, а их – с теми, кто жил на этих берегах давно-давно. Потому что пройдут такие большие тысячи лет, что всем будет все равно…
И это как-то страшновато приблизило его, Алеся, ко всем людям, даже к тем, чьи курганы стоят вот уже сколько столетий по берегам великой реки. Его курган спутают с ихними. Пройдут многие тысячелетия, и людям будет все равно. Поэтому, наверно, и надо держаться за тех, кому не все равно, и любить их.
Он думал, что это лишь продолжение того безмерного счастья, которое жизнь любовно дарила ему, связи его, счастливого, со всем живым. Он как бы почувствовал всю бессмысленность времени и освободился от его цепей.
…В этом новом настроении он был как бы всеобъятным.
В Веже произошли изменения: дед нашел учителя, сухощавого, очень умного молодого человека. Учитель начал преподавать Алесю родную историю, литературу и общественное право. Он делал это хорошо, но мальчика все это словно не касалось.
Настроение всеобъятности сделало то, что Алесь теперь очень часто летал во сне под самым потолком, потом выплывал из окна и плыл над землей. Однажды он спросил об этом у нового учителя и получил ответ:
– Атавизм.
– А это не от стихов?
И прикусил язык. Не стоило кому-то рассказывать о том, что жило в нем.
– Стихи – чепуха, – сказал учитель, поправляя длинные волосы. – Это хорошо для сытых, а вокруг столько бедных людей. Им нужно просвещение. Учителя. Медики.
Бедных людей было действительно много, и стихи им были не нужны. Но ведь он спрашивал не о тех стихах, которые в книгах. Он спрашивал о тех, которые поднимают человека над земным и позволяют одновременно быть со всеми.
Алесь замкнулся, никого не впуская в свой мир. Он слушал споры нового учителя с Вежей и чувствовал себя в чем-то выше их. Они не знали его тайны, которая давала силу ему, Алесю, любить всех людей, как самого себя, потому что все были одно и над этим одним было не властно время.
Учитель и дед не понимали этого. Они спорили.
– Потомки славянофилов! – кипел учитель. – Запад для них разврат, зло, крамола. «А вот мы – нерушимое единство православного блаженненького народа с православным белым царем. Носители величия! Третий Рим! Сила, которая спасет гнилой мир. Крест на Софии, государь-батюшка, славяне богобоязненные, душа смиренномудрая! Свет величия и правды – не то что безбожные западные аспиды…» А за этими их идеями – грязь. Мы потомки других людей, мы несем родине отрицание, свежую струю воды в ее трясину.
Дед величественно улыбался.
– Я уважаю ваши мысли, – сказал он. – Но не вы, да и не ваши апостолы первыми сказали это. Еще какой-то боярин бубнил о «богомерзких немцах с их геометрией». А другой резал ему бороду. Это было и это будет через десять и через пятьдесят лет. Повторится старая сказка о западниках и славянофилах. И лишь причины будут иные, а внешние проявления схожи и страшно смешны.
– Вы что же, отрицаете взгляды рыцарей духа? – бледнел учитель. – Тех, что в Петропавловку чуть не попали?
– Я тоже чуть не попал в Петропавловку, – говорил дед. – Что же я, по-вашему, человек прогресса и света?… Я не отрицаю западников. Они были нужны и необходимы. А потомки, взяв от них все худшее, превратились в карикатуру на них… Славянофилы же какими были, такими и остались, разве что не вытирают масленых рук о волосы и не сморкаются в руку, хотя склонны восхвалять и то и другое.
– А вы что же?
– Я считаю, что людям нужна новая одежда… Но сам как-нибудь дохожу в старой. Если, конечно, не влипну в вашу резню.
– Кто кого будет резать?
– Друг друга. Большая война за шелуху выеденного яйца. Княжество, как теперь мудрствующие гегельянцы говорят, «идеологических» лаптей против герцогства «теоретических» манишек. Абсолют глупости! Будете резать «тупоконечников» – не надейтесь на меня.
…Даже невозможное принадлежало Алесю. Он был хозяином времени, столетий, просторов, потому что все люди большой реки и все Люди, весь Род – это он, а он – они.
…Окончательно он понял безграничное и бездонное счастье, разлитое для него, в один из вечеров, когда забрел в заглохший уголок сада неподалеку от обрыва. Там росла маленькая еще груша, окутанная золотистой дымкой конца августа. Он сел на камень, поднял глаза и застыл: груша цвела огромными шафранными цветами.
Клубень «золотого шара» неизвестным образом попал под грушу и, дотянувшись до верхних ее ветвей, выбросил пышный букет желтых цветов, среди которых висели сочные, румяные плоды. Издали казалось, что это груша расцвела сказочными огнями. И он не удивился, потому что все было для него и это было лишь первым свершением невозможного.
Груши цвели для него золотыми огнями.
XVIII
Стояла теплая, укутанная туманами осень. Словно под серым покрывалом лежала каждое утро утомленная, ласковая земля. И лишь часа за два до полудня первый луч белого, неяркого солнца пробивал покрывало и радостно падал в пожелтевшую траву. Тогда повсюду начиналось господство радуг: сверкала паутина на траве, на заборах, украшенных подвесками капель, на череде в перерытых огородах, на блестящих боках тыкв в застрехе.
Это были маленькие радуги. А большие сверкали выше – в кустарниках, на придорожных вербах, на самых высоких деревьях над лесными стежками. И каждая красовалась, с немного грустной радостью показывая, как она похожа на маленькое солнечное гало. А хозяева радуг ловили в них последних осенних мушек – на радость себе – и золотистые узкие листики верб – на радость каждому, кто имел желание остановиться и посмотреть, на радость всем добрым людям.
Позже солнце разгоняло туман, и тогда мир лежал перед глазами покорный, далекий, тоже показывая, какая в нем может быть даль, какой простор.
«Погляди, человек. Видишь сухую полынь на дальней меже? Так до нее ровно полторы версты, А то, серенькое, видишь? Ну, там, где рыжие кони на жнивье? Такие рыжие-рыжие на желтом-желтом. Так это Витахмо. Никогда ты его не увидишь, кроме этого дня, который я щедро дал тебе. Смотри! Дыши!»
…В один из таких дней Алесь проснулся, увидел теплый туман за окном, поредевшую листву итальянского тополя и понял, что сегодня охота будет обязательно. Кто усидит в такой день дома?
И действительно, не успел он одеться, как отец прошел коридором к охотничьей комнате, грохнул в его дверь и пошел дальше, напевая словно посвежевшим после сна голосом:
Та-та-ти, та-та-ти!
Рог поет в пути.
Ра-ным ра-но
Сбор у ракиты,
Саквы сваляны,
Корбачи[76] подвиты,
Подви-ты,
Подви-и-ты.
Это и в самом деле так походило на бодрое пение охотничьего рога, что Алесь рассмеялся.