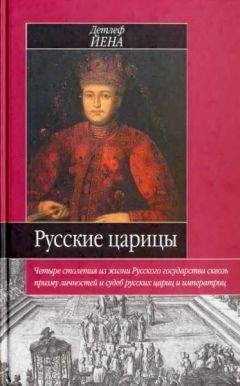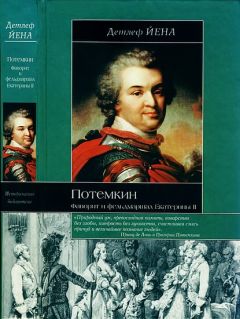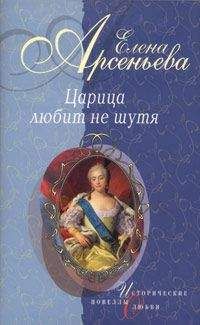Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
В эти дни как раз окончился срок, назначенный дедом. Алесю надо было ехать. Дед ходил мрачный, да и Алесь не находил себе места. Дед, узнав внука за эти дни, теперь ужасался, что мог оттолкнуть его в первый же день. Все свои черты, все черты людей, которых он уважал, он предчувствовал в этом человеке. Вежа видел во внуке самого себя, только неизмеримо улучшенного, и гордился этим.
Накануне старик не выдержал:
– Едешь? Наверно, рад?
– Дедушка… – с укором сказал внук.
– Едешь только на несколько дней… Конечно, родители… Но за твоей наукой буду следить я. По крайней мере год-два, пока мне не станет трудно. И когда я захочу тебя видеть, по первому же моему зову ты должен лететь сюда и жить столько, сколько я захочу.
– Я сделаю это… – ответил внук.
Алесь попросил деда дать ему с собой журнал, чтоб показать повесть матери.
– Здесь все твое, – мрачно сказал старик. – Сделай одолжение, никогда не спрашивай.
…В Загорщине мальчика встретили радостно, даже с гордостью – он смог завоевать сердце старика. Синие глаза отца сияли теплотой, мать улыбалась сыну ласково и грустно, как всегда.
Молча прочла повесть и опечалилась. Потом она сидела в загорщинском архиве и что-то искала по «Привилегиям», «Бархатной книге», «Серебряной книге Загорских» и по грамотам и явилась к ужину немного успокоенная, словно поняв что-то…
– Погубили гения, – сказала она.
Алесь молчал.
– Даже если вернется, то вернется изувеченным, – продолжала мать. – Что же это за подлый век! Человек такой впечатлительности, разве он выдержит?
Она подошла к балюстраде и стала смотреть в темный парк.
– Погубили не только гения, – сказала она наконец, – погубили человека одной крови с нами и нашего дальнего родственника.
– Родственника? – Алесь встрепенулся. – Как родственника? Все говорили, что он сын лекаря.
– Из наших, – сказала мать. – Род старинный, но пришел в упадок. Я думала, и не осталось из них никого. Однако есть. Их майорат – Достоево под Пинском, и они оставили его, обеднев, лет сто назад. Они от «сына любви» одного из Загорских, младшая, боковая наша ветвь. А их герб – «Радван».
– Не может быть.
– Смотри. – Мать развернула лист с выписками. – Слишком знакомая фамилия. Смотри: шестнадцатое столетие, ответвление «Радвана»; тысяча шестьсот седьмой год – процесс Марины Достоевской-Карлович… Смотри – вот ее брат Ярош сидит в Мозыре. Тысяча шестьсот тридцатый – Достоево имеет уже трех хозяев. В том самом году судья Петр Достоевский рассматривает дело о колдовстве. Тысяча шестьсот сорок девятый год – крестьянин на «копном суде» признался в ограблении, учиненном в имении Романа Достоевского. А вот март тысяча шестьсот шестидесятого года – дело о пропаже вещей, закопанных в землю во время нашествия врага. Подписался Ян Достоевский. Первая и единственная подпись по-польски…
– Д-да-а, – сказал Алесь.
– Значит, конец «Радвана». Оборвался род. Сколько уже их, отрубленных ветвей… Да разве топор жалеет? А молодой человек был бы светочем человечества.
…Спокойное течение жизни в Загорщине прервалось свадьбой старшего сына Когутов, Стафана. Мать за два дня до свадьбы отпустила Алеся в Озерище.
Повеселились вдоволь. Все были рады Алесю. Снова шутил Кондрат, снова ласковыми, немножко женскими глазами смотрел Андрей. Михал и Марыля не знали, куда усадить парня. Павлюк, хозяйственный Павлюк, показал ему все, что он заимел за то время, пока они не виделись: настоящую кожаную пращу, лосиный череп с рогами и пещеру, которую он нашел в овраге, на берегу Днепра. Яня хотела сидеть только у него на коленях, Юрась показал ему два заветных грибных места.
Это была простая, нетребовательная любовь. И он окунулся в нее, платя тем же, как окунулся с благодарностью в песни, которым его начал учить дед Данила Когут. Тоже Данила, как и тот. Так в чем же, наконец, разница? Этот дед не родной, но тоже близкий и простой. А его песни – чудо! И язык его легкий, привычный. Старый Вежа иногда говорил по-мужицки, но как сложно это было! А здесь было просто, как дымный овин, просто, как звезды сквозь дырявую стреху сеновала.
Гнали и настаивали «трижды девять»,[74] варили пиво, собирали грибы на свадебный квашеный борщ. Яня ходила вся в муке и поправляла, как мать, платочек тыльной стороной ладони. Кондрат лизнул еще теплого пива и делал вид, что он такой пьяный – просто ужас, и все хотел сесть на голову, как это делают совсем глупые щенки.
Накануне свадьбы решили наловить рыбы, чтоб и рыба была на свадебном столе. Юрась и Павлюк должны были ловить удочками, близнецы – топтухой, одолженной у Лопат, Алесь и Стафан – бреднем.
Душегубок напросили у соседей целых пять штук (Павлюк и Алесь должны были плыть в одной) и отправились ловить в затон у Лысой Горы.
Это была воля!
И разве сам Алесь не был все эти дни вольным среди вольных? Разве не мог он ответить песней на песню, которую пел кто-то в лугах, на берегу старицы? Разве не было и в нем чего-то от этой реки, от полета аистов?
Мысль была неожиданной, и он словно вырос.
…Челны плыли у самого берега. А на берегу стояли девушки. Нет, не все девушки: у одной на голове поверх платка был женский белый наголовник, который лежал тюрбаном и спускался на плечи и шею, оставляя открытым одно лицо.
Алесь даже удивился, какие они все были красивые и почему-то не такие, как всегда. Сегодня он не мог бы запихнуть кому-то из них за ворот майского жука, чтоб послушать, как девушка будет визжать. Он смотрел на них какими-то новыми глазами. Все в пестрых домотканых юбках со складками, в разноцветных шнуровках, которые так ловко и совсем по-новому стягивали их фигуры.
Павлюк, который греб с Алесем, сказал тихо:
– Озерищенская только одна. Остальные из Витахмо. Видно, на фест, идут в Милое. А вон та с ними – Владька, солдатская вдова. Наверно, к парому идти не хотят.
Девушки и в самом деле махали руками.
– Дяденька, перевезите!
Кондрат, который плыл первым, начал тормозить, пропуская вперед Стафана. Зубы у Кондрата сверкали: предчувствовал веселье.
– Нельзя, девки, – сказал Стафан. – Видите, душегубки.
Солдатская вдова хмыкнула:
– А может, я и хотела б с тобой душу загубить, соколик?
– Раньше бы… – сказал Стафан. – Теперь… поздно.
– Ну и сокол ты! Поздно ему, горемычному.
– Дяденьки, милые, перевезите. Не ночевать же нам под кручей.
– Утонем, девки, – рассудительно сказал Стафан.
– Тот не утонет, кто висеть должен, – ответила вдова.
Нерасторопный на язык Стафан лишь покачал головой.
– А то перевез бы, – сказала Владька. – Под дубом посидели бы… Желудь нашли бы…
– Что я, свинья? – нашелся Стафан.
– Свинья не свинья, а так, подсвинок, – сказала вдова.
– Насвинок, – сунул свои три гроша Кондрат.
– А ты уж молчи, – ответила Владька. – Возится там в своей топтухе, как воробей в вениках.
На Кондрата посыпался град незлых насмешек.
– Ах, какие же вы все удалые хлопцы… батьковичи какие видные. Особенно этот, с подковой на лбу…
– Это, девки, чтоб знали, за кого в темноте деретесь, – скалил зубы Кондрат.
– Очень ты нужен кому, Копша.[75]
– От Копши еще никто не убежал – ни королева, ни святая дева.
– Нет, девки, вы на него зря, – сказала Владька. – Посмотрите, какой красивенький. Головка как маковка. Правду бают, что к дураку и бог милостив.
– Милостив бог, да тебе не помог. Со мной смел. Хорошенькая пара: он гол, как бич, да остер, как меч, а у нее глаза по яблоку, а голова с орех.
Девки увидели, что ребята упрямятся.
– Брось ты, Владька, нечего тому богу кланяться, который на нас не глядит.
И пошли на косогор.
– Так не перевезете, мужики? – спросила Владька.
– Нет. Сама видишь, – уже издали сказал Стафан.
Владька рассердилась:
– Эх вы! Дак поймать вам того язя, что кудысь лазит.
Никто ничего не понял, кроме старших. Зато Кондрат захохотал так, что откинулся в сторону. И тут душегубка вильнула и перевернулась вверх дном, а Кондрат юркнул под нее, прямо головой в воду.
Теперь хохотали все. И Кондрат, вынырнув из воды. Хохотали девки на косогоре. Мокрого Кондрата посадили снова в долбленку, поплыли дальше.
Андрей плыл последним и заметил, что не все девушки поднялись на косогор. Одна стоит на том самом месте, большеглазая, скромная, Кахнова Галина.
– Что же ты стоишь? – ласково улыбнулся Андрей.
– Не хочу на паром. Там, наверно, Лопатин Янук.
Янука Лопату Андрей не любил. Ершистый, злой человек.
– Что ж, так и будешь стоять?
– Может, кто-нибудь перевезет, – вздохнула она. – Жаль, что у вас душегубки.
Андрей улыбнулся. Красивая головка, склоненная, как цветок «сна», немножко на сторону, приподнялась.