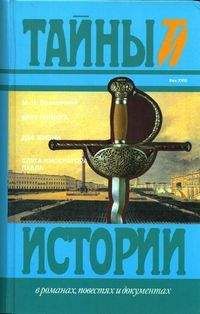Павел Загребельный - Я, Богдан (Исповедь во славе)
А тут появился на Сечи какой-то священник и собирал целые толпы казаков, произнося перед ними какие-то странные проповеди, такие странные, что Самийло не удержался и, переписав, принес мне их на Бучки, может, для того чтобы развеселить мою душу. Проповедь была очень длинной. От сотворения мира, битвы архангела Михаила с Люцифером, от появления Евы, которую Адам вылепил из своего ребра, потом рассказывалось о райском яблоке и об изгнании Адама и Евы из рая, после чего "на свете как лихо, так лихо, как беда, так беда. Потому велел господь барщину отрабатывать, а в церковь не велел ходить, в заговины богу ничего не давать, корчмы не миновать и за корчмой как за матерью родной пребывать. Да и пустил на нас орду татар, турок и тех нечестивых ляхов, которые вокруг начисто пообгрызали все столпы, на которые наша русская вера опирается. Ой боже ж мой, пообгрызали! Петров пост подгрызли, преображение подгрызли, рождественский пост тоже. Один лишь столп необгрызенный остался, на котором великий пост стоит. А когда и его до конца обгрызут, тогда уже всю нашу благоверную Русь черт заберет и в трапезу к своей чертовой матери занесет, от чего нас спаси, господи. Аминь".
- Что это за поп? - спросил я у Самийла.
- Говорит, твой исповедник.
- Отец Федор! - не поверил я.
- Так называется. Стало быть, знаешь его, Зиновий.
- Ты спросил бы, кого не знаю.
- Тогда исповедник нужен тебе прежде всего.
- Ой, не поможет! Ну, скажу, что видел, что слышал, что кусал, а что только нюхал, к чему прикасался греховно, а до чего руки были коротки. А кто нам удлинит руки, Самийло?
- Сами удлиним!
- Поедешь со мной к хану. И отца Федора привези с Сечи. Может, расскажет татарам, как Михайло с Люцифером бился. Как оно там?
Самийло, смеясь, перечитал еще раз:
"А Люцифер со всего скока да Михайлу в щеку! Как же крикнет Михайло: "Гей, теперь же, не бивши кума, не пить пива!" Да как схватится за оружие, то за нож, то за чечугу и мачугу, то за меч и за бич, то за самопал, чтобы бить Люцифера не помалу..."
Окружали меня людские голоса, упорство людское, смех и отвага, и я сам от всего этого чувствовал себя с каждым днем все сильнее, распрямился, поднимался выше и выше, становился видимым аж в далеких столицах, и хотя там еще и не поняли, кто я и что, не знали, как назвать меня - непослушным грешником, или преступным бунтовщиком, или ярым мстителем, но уже затревожились-всполошились все вокруг, и к гетману Потоцкому полетели советы и веления от "благодетеля" казацкого Киселя, от воеводы краковского Любомирского, от канцлера коронного Оссолинского и от самого короля. Гетману коронному советовали быть сдержанным и рассудительным, писали ему, что Хмельницкий пошел на Запорожье только для того, чтобы начать войну на море, что кварцяное войско в казацкие города на Украину вводить преждевременно, что к Хмельницкому надо послать для переговоров знающих людей, а не раздражать его и гультяйство, собранное на Запорожье, угрозами и запугиваниями. Не было согласия между коронным гетманом и его гетманом польным Калиновским. Калиновский еще с осени настаивал, чтобы большая часть кварцяного войска была распущена, только тогда, мол, можно быть уверенным насчет намерений короля начать войну вопреки постановлениям сейма и сената. Жолнеров уже начали распускать, как вдруг пришла тревожная весть о моем бегстве из Чигирина. Потоцкий мог бы торжествовать, что не распустил войско, если бы у него было для этого время, но теперь вся его, накопленная с давних пор, злость против народа украинского сосредоточилась на одном мне, и он торопился во что бы то ни стало изничтожить меня, пока я не поднял головы. Долгие годы Потоцкий был польным гетманом при Станиславе Конецпольском и, прежде всего, научился у него жестокости. Конецпольский был заикой, поэтому о нем говорили: "Пан Станислав раньше ударит, чем промолвит". Потоцкий, считавший себя оратором не хуже самого Оссолинского, хвастливо заявлял: "Я и ударю, и промолвлю!"
Но вот полк, посланный коронным гетманом против меня, был разбит, угрозы выдать Хмельницкого не действовали, не помогло и то, что Потоцкий назначил за мою голову тысячу золотых: охотников получить иудино золото не находилось, а тем временем со всех концов целыми реками стекался народ на Запорожье, и на Украине не было села, где бы не звали людей вставать за свою волю, и звали не за золото, а на смерть лютую, ибо на пристанищах казацких нужны были души самые твердые. Разъезжали по селам и местечкам мои посланцы и добровольные помощники казацкие, выкрикивали на базарах и возле церквей: "Кто хочет за христианскую веру на колу сидеть, кто за святой крест рад, чтобы его четвертовали, колесовали, кто готов принять муки всяческие и не боится смерти, - иди в казачество! Не надо смерти бояться - от нее не убережешься. Вот такая наша жизнь казацкая!" Кого ловили, безжалостно сажали на кол, однако это еще больше поощряло людей вставать против панства. Одни бежали на Запорожье, другие готовили для себя оружие дома. Только Вишневецкий в своих имениях отобрал в это время двадцать тысяч самопалов у крестьян.
Потоцкий не послушал королевского веления и ввел кварцяное войско в казацкие города, чтобы не дать разгореться бунту. В письме к королю коронный гетман писал о своем нежелании идти в морской поход, объяснял, что двинулся на Украину не для пролития крови, а только из стремления успокоить казаков, иметь их "в полном порядке": "Двинулся, чтобы страхом войну закончить. До сих пор войском Вашей королевской милости не пролито ни единой капли казацкой крови и не будет пролито - лишь бы только покорились, отложив свое легкомыслие и ароганцию и сломили свое упорство".
Чтобы избежать лишних нареканий варшавских властелинов, Потоцкий снарядил даже посольство ко мне, возглавляемое моим давним знакомым ротмистром Иваном Хмелецким, который хорошо знал казацкие штучки. Хмелецкому повезло с погодой: после затяжных оттепелей и непривычных зимних дождей степь немного подморозило, и ротмистр со своими жолнерами довольно легко доскакал до Сечи. Вельми удивился, когда ему там сказали, что он должен искать Хмельницкого где-то в другом месте, что на Сечи о нем не слышали ничего, не видели его и не знают, где он пребывает и о чем думает-гадает. Поэтому когда Хмелецкого наконец перевезли на Бучки (по дороге мои казаки смеялись над ротмистром, когда он попытался заплатить им: "У нас и псы за перевоз не платят, не то что королевские ротмистры!") и увидел меня в жалкой деревянной хижине, одинокого и утомленного, то как-то словно бы растерялся.
- Челом, пане Хмельницкий, - промолвил он дружески.
- Челом, пане Хмелецкий, - ответил я, - вишь, забрались мы с тобой так далеко, что тут и хмель, наверное, не растет.
- Да вижу, что, наверное, не растет, - рассмеялся Хмелецкий.
- Так вот я, зная такую экономию, попросил сюда людей, которые разбираются в том, как возить хмель куда надо.
- Еще надо и пиво уметь сварить, - заметил Хмелецкий.
- И пиво сумеют сварить, и трубки раскурить, и дыму напустить, всё умеют, пан ротмистр.
- Не очень много у тебя людей, пан Хмельницкий.
- Зато каждый десятерых стоит.
- Все равно недостаточно.
- А зачем мне слишком много? На чайки много и не уместится.
- Так все же хочешь на море ударить?
- Может, и на море, а может, и на сушу. Как уж ветер подует. Чтобы не супротивный.
- С суши уже веет супротивный, - предостерег Хмелецкий. - Гетманы пошли с войсками на Украину и дойдут и сюда, ежели понадобится.
- И тебя послали сказать об этом?
- Да вот послали. Велено тебе сказать, чтобы не начинал войны на море, возвратился домой и распустил всех своих людей и чтобы осели они спокойно по своим домам.
- Хорошо молвишь, пане Хмелецкий. Осели по своим домам... А если домов нет? Может, там гетман коронный велит для нас дворцы построить? Его милость король ясновельможный, зная о нашем положении, велел самим железом себе волю и добро добывать. К слову своему королевскому он еще и письма свои с печатью добавил. Короли не отрекаются от своих слов, хотя и не всегда в состоянии их подтвердить. Так хоть мы своей отвагой подтвердим. Может, хочешь увидеть этот привилей королевский?
- Много о нем говорят у нас, но никто не верит, - сказал Хмелецкий.
- А вот ты и поверишь. Демко! - крикнул я. - Покажи пану ротмистру привилей королевский.
Демко неотлучно сидел возле меня в прихожей, так и спал у моего порога, на него я полагался более всего, это не Иванец, который все слоняется где-то да выискивает что-то. Демко выдумал и укрытие для привилея, на который все хотели посмотреть да еще и пощупать, выстрогал деревянную дощечку, прикрепил на ней письмо королевское и прикрыл черной шелковой материей. Так и принес к ротмистру. Приоткрыв шелк, показал письмо вблизи, хотя в руки и не дал. Дескать, смотреть смотри, а руками не прикасайся.