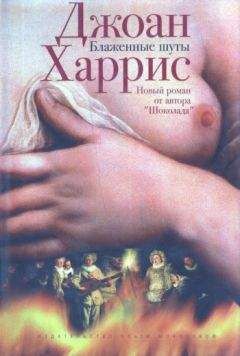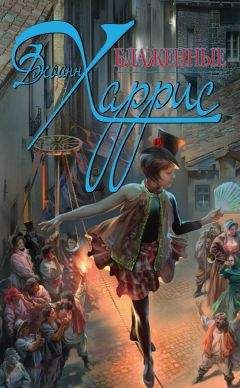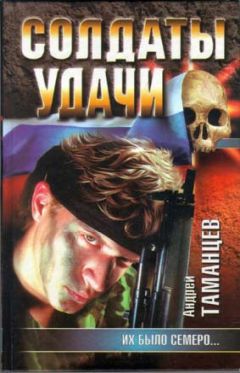Харрис Джоан - Блаженные шуты
Она вся в вас. Та же недоверчивая мина, белесые глаза. Она унаследовала ваше презрение к простому человеку, как унаследовала и вашу спесь, — под вашей набожностью все вы, Арно, прячете напыщенность, достойную образцов классической трагедии. Лишь именем отличается она от вас. Вы вышколили ее отменно. Она читает ваши письма с самозабвенностью Элоизы, поглощавшей послания Абеляра[49]; уже с младенчества набожность ее превосходила все ожидания. Она не ест мяса, не пьет вина, кроме как во время причащения, постится каждую пятницу. Такая племянница делает вам честь, а подобная честь может — кто знает? — обернуться приличной выгодой. В конце-то концов не вечно же вам пребывать в епископах. Кардинальская шапочка очень бы вам пошла, монсеньор, или, на худой конец, архиепископская митра. Вы хитроумно вымостили племяннице дорожку к Матушке-Церкви: распустили слухи о видениях, ангельских голосах, а также упомянули не слишком громко, но все же вполне звучно, — о случаях исцеления. Ваша тайная мечта: добиться причисления кого-либо из семьи к лику святых — не имея наследников, это единственная возможность увековечить свой род, — а в отношении матери Изабеллы такая возможность отнюдь не исключена. Хоть покойная ее матушка считала, что слишком рано девочке принимать постриг, вы взяли ее под свою опеку; заставили девчонку возмечтать о монастырской жизни, подобно тому как нормальный ребенок мечтает о кукольном домике.
Видали бы вы ее лицо, когда я сообщил ей известие. Боже, как она была хороша: глазки сварливо сузились, уголки рта презрительно опустились.
— Аббатисой? Куда? — взвыла она. — В эту глухомань? Ни за что на свете!
Вы избаловали ее, монсеньор. Заставили поверить в ее детские годы, что она достойна высшего. Возможно, дерзкая девчонка возжелала видеть себя в Париже, с его высокими шпилями, тщеславием и светскими шлюхами, которые падут пред нею на колени. Такое пришлось бы ей по душе.
Или, может, это из-за наказания, которое я назначил ей за вспышку гнева, за то, что отчитал ее, а потом, по истечении епитимьи, с мягкостью простил, но я заметил в ней некий голод, о котором вы, я уверен, и понятия не имеете, где-то внутри у нее греховность затачивается о святость, образуя единое острое лезвие. Наступит время, и она созреет, чтобы воспользоваться им, монсеньор д'Эврё. Учтите, наступит.
Ночью ко мне, как я и предвидел, явилась Жюльетта. Это было рискованно; она могла ожидать, что застанет со мной Клемент, однако, раскрыв мою тайну, уже не могла сдержаться.
Как это в ее духе, тотчас начать с нападения. На ее месте я бы послушался моего совета и вел себя посдержанней; моя Крылатая, как всегда, в самый острый момент рвется в атаку, выдавая все свои козыри, только чтобы противостоять мне. Это сильное упущение в ее игре, — характерное для начинающего игрока, — и хотя это мне на руку, я не могу освободиться от чувства некоторой разочарованности. Мне казалось, я был ей хорошим учителем.
— Так вот почему ты здесь! — выпалила она, едва я открыл дверь. — Епископ Эврё!
— Кто-кто? — с невинным видом переспросил я, но получилось фальшиво; глаза ее победно блеснули.
— Прежде ты лгал много искусней, — сказала она, врываясь мимо меня в дом.
— Может, это от недостатка практики, — пожал я плечами.
— Не думаю.
Она уселась на ручку моего кресла, качая ногой. На голой загорелой ступне была заметна пыль; лицо светилось радостью воображаемой победы.
— Ну, — спросила она, — когда же нам его ждать? И что ты будешь делать, когда он явится?
— Разве мы его ожидаем? — спросил я с улыбкой.
— Если нет, ты утратил свой нюх.
Я повел плечами, обдумывая ответ:
— Ты не поверишь, я собирался тебе все рассказать. Хотя ведь особого доверия ты ко мне до сих пор не испытывала, не так ли?
— Еще бы! После Эпиналя...
— Жюльетта, ты несносна! Я ведь уже тебе объяснял.
— Объяснял, но это тебя не оправдывает.
Она была резка, но что-то появилось в ней, отдаленно угадываемое смягчение, словно ее открытие вместо того, чтобы увеличить ко мне подозрение, напротив, вселило в нее некоторое доверие.
— Расскажи про епископа, — сказала она уже значительно мягче. — Ты же знаешь, я тебя не предам.
Я улыбнулся:
— Я заслужил преданность? Весьма тронут, я...
— Не в том дело, — отрезала она. — У тебя моя дочь.
Уф! Еще удар. Однако, если игра затягивается, намеренная уступка уже может расцениваться как победа.
— Отлично, — сказал я, слегка привлекая ее к себе. Она не отпрянула.
Я исповедовался достаточно долго, чтоб смягчить ее страхи и польстить ей — хотя бы чуть-чуть, — хотя она полагала, что, пока слушает меня, ее лицо остается каменным. Часто женщины слышат то, что им хочется услышать, даже моя Гарпия, у которой есть все основания верить в худшее. Но полуправда нередко куда действенней, чем откровенная ложь.
Разумеется, она разгадала самое очевидное. В этом я ручаюсь. Возможно, даже слегка стала меня понимать — несмотря на напускаемую на себя святость, она бунтарка по природе, и у нее не больше оснований питать симпатию к епископу, чем у меня. Единственное, чего я добиваюсь от нее сейчас, — потянуть время; в конце концов, хороший скандал, как и хорошее вино, требует времени для нужной выдержки и созревания. Шато д'Эврё — хоть и не изысканное, не многолетней выдержки вино, но обладает неким очаровательным металлическим привкусом, который ты, моя милая Жюльетта, возможно, сочтешь недурным. Дай же ему как следует настояться, чтоб как следует вспенилось. Пусть он только появится, и оно потопит его в своей безудержной пене.
Что ж, мой рассказ был убедителен. Сначала Жюльетта слушала недоверчиво, потом с одобрением, потом, хоть и неявно, но с долей симпатии.
Мне удалось изобразить скорбное лицо:
— Я не люблю проигрывать.
— А ты считаешь, это — победа? — спросила она. — Ты хоть представляешь, сколько бед сотворил? И продолжаешь творить?
— Кто? Я? — Я повел плечами. — Да я просто готовил сцену. Все остальное делали вы сами.
Она поджала губы; поняла, что я прав.
— Ну, а после спектакля? — резко спросила она. — Что потом? Потом вы снова, вы оба разъедетесь в разные стороны и оставите нас в покое?
— Почему бы нет? Если ты вдруг не вздумаешь меня сопровождать. — Она оставила мои слова без ответа, как я и ожидал. — Послушай, Жюльетта, — сказал я, отметив выражение ее лица. — Ты ведь не можешь отказать мне в благоразумии? Неужто ты считаешь, что я способен зайти далеко в своем возмездии епископу? Ты слыхала, как они поступили с Равальяком? К тому же, если бы я задумал прикончить Эврё, сама посуди, ведь я бы уже давно мог найти способ, как это сделать. — Я помолчал, дав ей возможность обдумать мои слова. — Я хочу видеть его униженным, — тихо сказал я. — У монсеньора непомерные амбиции; претензии на возвеличивание своего рода. Я хочу их сокрушить. Хочу столкнуть этих Арно в грязь, где все мы пребываем, и я хочу, чтобы они знали, что именно я это сделал. Смерть епископа это уже почти канонизация. Я же желаю ему долгой, долгой жизни.
Я умолк. Какое-то время и она молчала. Потом наконец, тряхнув головой, сказала:
— Ты чертовски рискуешь. Сомневаюсь, что епископ предоставит тебе и время, и такую возможность.
— Тронут твоей заботой, — сказал я. — Но игра без риска — вовсе не игра.
— Сколько можно играть?
Так искренне она спросила, что я готов был ее расцеловать.
— Ах, Жюльетта, — мягко сказал я. — А что еще нам в жизни остается?
6 ♥6 августа, 1610
Прошлой ночью наконец-то пролился дождь, но он разразился западнее, в Ледевэне, нас прохлада обошла стороной. Мы же изнемогали от духоты в дортуаре, глядя, как жаркая молния кометой взлетает над заливом. Духота и зной вызвали нашествие мелких москитов из болотистых низин, в ту ночь они роями нагрянули в наши окна, и, усеивая каждый дюйм неприкрытой кожи, сосали нашу кровь. В ту ночь мы спали плохо, вернее, вовсе не спали; одни яростно пришлепывали на себе москитов, другие просто лежали измученные, уже не в силах сопротивляться. Чтобы отогнать насекомых из своей кельи, я натерлась листьями цитронеллы и лаванды, и несмотря на духоту мне удалось немного соснуть. Мне повезло больше многих; проснувшись утром, я почти не обнаружила на себе укусов, в то время как Томасина находилась в плачевном состоянии, а обладательница горячей крови Антуана являла собой опухшую, студенистую, сплошь в багровых укусах массу. На нашу беду часовня оказалась также полна этих летучих тварей, на которых, казалось, не действуют ни ладан, ни дымящие свечи.
Прошла заутреня. Начался день, и москиты вернулись на свои болотные позиции. Однако к Часу Первому воздух раскалился еще сильней, небо было жаркое, белое, предвещало худшие страдания. Никто не мог спокойно сидеть. У всех все чесалось и зудело; даже я, сумевшая избежать этой кары, будто из солидарности чувствовала зуд у себя на коже. Как раз в этот утренний час и предстал перед нами холодный и степенный Лемерль. По левую руку — сестра Маргерита, по правую — Мать Изабелла.