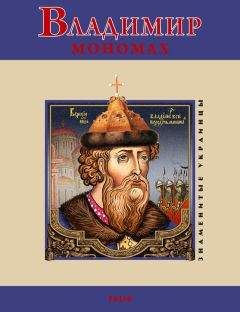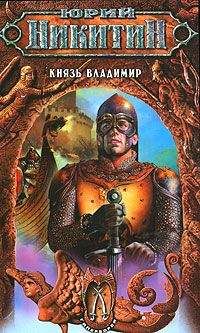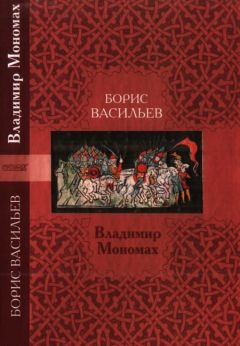Павел Загребельный - Смерть в Киеве
Шли по темным узким переходам, смердючим и душным, поднимались куда-то вверх, не встречали ни одного живого существа, хотя из глубины ковчега доносилось множество каких-то звуков: топот, вздохи, возня, хрюканье, мычание, ржание.
Человек тут был придавлен бревнами. Хотя этот ковчег сооружался для людей и все тут должно было им служить, впечатление создавалось такое, будто сооружение задумано лишь для полнейшего торжества дерева в нем, этих мертвых, тяжелых как камень, безмолвных дубов. Бревна укладывались продольно, ставились отвесно, наискось, наперекрест, в соответствии с этим и переходы во внутренностях ковчега имели неодинаковый вид и размер, поражали таинственной запутанностью или ненужностью, там были глухие закутки, тупики, черные провалы, западни, в которых ты мог исчезнуть навсегда.
Сухая фигура боярина в слабом свете свечи, огонек которой Кисличка каждый раз прикрывал ладонью, химерно разламывалась, разваливалась, расчленялась, то падая всем под ноги, то прилепляясь к боковым стенам, то с беззвучностью летучей мыши мечась над головами.
- Долго ли еще? - нетерпеливо справился Долгорукий.
- Вот уже, вот уже, князенька, - отвечал Кисличка, чуточку поднимал свечу, мигом бросая разорванную свою тень всем под ноги, а потом вознося ее к дьявольскому шастанью над головами одним лишь наклоном красноватого слабого огонька.
Наконец очутились они в просторном строении, смахивающем на гридницу, были здесь столы и скамейки, освещалось помещение толстыми восковыми свечами, хотя свет не мог пробиться сквозь дым от костра, разложенного в просторном каменном гнезде посредине помещения, как раз напротив большого отверстия в деревянном потолке, обитом в том месте медью, видимо чтобы уберечь от искр. Сквозь отверстие снаружи пытался прорваться мороз, но теплые волны дыма каждый раз отбивали его натиск, и в гриднице было тепло и, можно бы даже сказать, уютно, в особенности когда ты уже не одну и не две недели слонялся по бездорожью среди застывших от лютой зимы пущ.
- Ой, гости ж дорогие! - вздыхал то ли радостно, то ли огорченно боярин Кисличка. - Ох, князенька, я уже и не надеялся увидеться еще перед свершением великого и неизбежного.
- Ждешь, боярин?
- Со дня на день, князенька. Подсчеты указывают. Где-то уже идет волна. Не докатилась до нашей земли, потому как далеко. Начинается в краях теплых. Затем идет сюда. Для этого нужен не день и не месяц. Но придет. Докатится.
- Привез я тут ученого лекаря из Киева. Хочет послушать тебя, боярин.
- С радостью, князенька. Жаль мне всех на свете. Плачу денно и нощно над душами, убиваюсь тяжко, что не открылось никому больше на земле, но и возношу хвалу господу за великую милость ко мне, грешному. Ибо сподобился я высочайшей милости, открыто мне все грядущее, узнал я исполнение времен и назначение свое на земле.
- Боярыня здорова? - не обращая внимания на бормотание боярина, буднично спросил Долгорукий.
- Здорова.
- А Манюня?
- Радость моя тоже здорова, благодарение всевышнему.
- Скотина?
- Скотина упитанная и спокойная. Олени же и лоси выдохли. Зайцев попытался держать, выдохли тоже. Волчат малых выкормил, но, когда подросли, стали выть так страшно, что пришлось выпустить.
- Шкуры ободрал хотя бы. Мехом лавки покрыл бы. Волчий мех крепкий, не вытирается.
- Не могу перегружать ковчег. Слежу пристально, чтобы взвешено все было, как надлежит для плавания.
- Не разламывается еще твой ковчег?
- На водах не разломается. Если же не дождусь еще и ныне исполнения, то на лето велю сделать прокоп под озеро, подведу под днище, ибо тяжестью собственной ковчег давит себя также, как тяжелый человек давит себя телом своим, начиная с ног и с утробы.
- Пищи, как всегда, не в достатке?
- Для потребления лишь.
- Питья не появилось?
- Вода, княже. Кто готовится к плаванию, должен довольствоваться одной водой.
- Не беда: привезли всё свое. Потому как люди мои привыкли пить и есть вдоволь. Как сказано у апостола: "Пускай никто не судит вас за еду или питье или за какой-нибудь праздник: се тень того, что наступит". Твое же будущее предвидится таким же постным, как и нынешнее.
- В грядущем плавании, князенька, надеюсь испытать высочайших радостей и счастья.
- А мы и тут возьмем, что сможем взять!
Долгорукий хлопнул в ладоши, отроки бросились сдвигать столы, вносить припасы, готовить пиршество.
- Зови боярыню и Манюню.
- Нужно ли, княженька? У них много работы. Нужно следить за скотиной, наводить порядок в ковчеге. И сам не покладаю рук, оторвался от работы лишь ради тебя и твоих.
- Взял бы помощников.
- Знаешь ведь: не могу. Не велено господом. Должен готовить все припасы, иначе не спасусь.
- Так зови своих. Не сядут мои люди без них за стол. Знаешь мой обычай, точно так же, как я твой.
Боярин исчез в темных переходах. Долгорукий взглянул на Дулеба:
- Что скажешь, лекарь?
- Опасный и вредный безумец.
- Почему же опасный? Имеет бога в сердце и цель в жизни. Посвятил себя строительству ковчега, жизнь на земле считает преходящей, готовится к плаванию, ибо лишь в плавании - все. Ежели подумать, оно, быть может, и правда: все мы временные на сем свете, а на том свете будем плавать либо в море божьего милосердия, либо в котлах с растопленной смолой. Да и что делает человечество?.. Не ковчеги ли оно строит, называя их так или сяк?
Кисличка возвратился не скоро. Он шел впереди, а за ним двигалась приземистая, пышная боярыня, одетая, можно сказать, бедно, но чисто, руки у нее были крепкие, натруженные, - видно, была из простого рода, взята боярином не для роскоши, а для непрерывной работы, для проклятого труда, для бессонных ночей. Третьей, как угадали одновременно Дулеб и Иваница, шла Манюня, дочь Кислицы, белотелая, свежая и пригожая, даже странно было, что у такого засушенного урода родилось такое дитя, да еще и выросло в смраде и мраке забитого наглухо ковчега, сохранило красу и нежность, несмотря на тяжелый труд, от которого, это было совершенно ясно, боярин не мог ее освободить, потому что не имел здесь никого, кроме жены, самого себя и дочери.
Манюня тоже была одета скромно, но этого никто не заметил, потому что в этой девушке было так много всего чисто женского, с такой щедростью излила природа на нее всю роскошь, что мужчины только вздохнули, увидев такое диво, а княжна Ольга не удержалась, подбежала к Манюне, обняла ее, воскликнула:
- Ты Манюня? А я Ольга.
- Это княжна, Манюня, - степенно пробормотал боярин Кисличка. Поцелуй ей руку.
Но Ольга сама чмокнула Манюню в щеку, не протянув своей руки, а каждый из мужчин с сожалением подумал, почему он не оказался на месте княжны и почему не суждено прикоснуться губами к этой нежной щечке.
- Вот уж! - вздохнул Иваница так громко, что все обратили на него внимание. Долгорукий засмеялся. Князь Андрей лукаво погрозил пальцем, а Манюня покраснела, хотя вряд ли кто мог это заметить в полутьме и задымленности боярского ковчега.
Сели за столы. Боярин Кисличка по правую руку от Долгорукого, Манюня - слева от великого князя, между Дулебом и князем Андреем была боярыня, молчаливая и смущенная присутствием таких высоких гостей.
Чашник разлил пиво и мед, обратился к Юрию:
- Дозволь, княже, слово?
- Дозволяю, но знай, о чем надобно молвить.
- Знаю, княже.
- Не обо мне.
- Ведаю.
- И не про коней.
- Согласен, княже.
- Тогда начинай.
- Был на свете слепой человек. Ибо все мы так или иначе слепы на этой земле. Но вот был слепой, не скрывавший своей незрячести. Был у того слепого и сын. Вот пошел куда-то сын, а слепой сидит и ждет. Приходит сын, слепой и спрашивает у него: "Где был?" - "Молоко ходил пить". - "Какое же оно?" - "Белое". - "А я уже и забыл, что ж это такое - белое". - "Такое, как гусак". - "А гусак какой?" - "Такой, как мой локоть". Слепой пощупал локоть сына: "Теперь знаю, какое молоко".
Так выпьем за Манюню, у которой локти и впрямь как молоко. Будь здоров и ты, княже, возле такой девушки, как Манюня Кисличкина.
- Будь здоров, княже, возле Манюни.
- Здорова будь, Манюня!
- Здоров будь, княже.
Кубки осушили под веселые восклицания, налили еще раз и выпили снова; когда же закусили все как следует, Долгорукий вытер усы, крикнул:
- Теперь нашу песню про Манюню!
И Вацьо подскочил, взмахнул руками, изо всей силы крикнул "гей!", начиная песню, а все сразу подхватили, наполнив до отказа ковчежную гридницу сильными мужскими голосами:
Гей, боярский двор - море,
Гей, Кисличкин двор - море!
Что крутые берега его - тесаный терем,
Что буйные ветры - стража верная.
А у него на море белорыбица
Манюня Кисличкина!
Ловили ловцы,
Ловцы-молодцы,
Те же ловцы - неудальцы:
Неводы у них не шелковые,