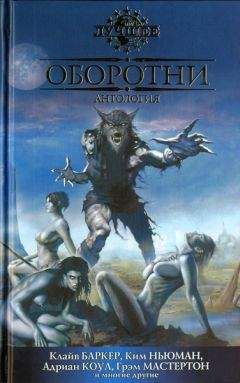Иван Наживин - Распутин
Евгения Михайловна точно переродилась. Исчезли все эти припадки ревности, припадки отчаяния, пузырьки, все — перед ней стоял мужественный и прекрасный пророк, который звал ее в светлую землю обетованную. Она никогда не интересовалась ни коммунами, ни трудом на земле, а теперь вдруг разом поняла всю прелесть вольной коммунальной жизни, говорила с увлечением о труде среди пышных садов, а когда Сергей Васильевич, и сам зачарованный в достаточной степени этими волшебными перспективами, пробовал все же немножко возражать, что не так-то легко все это делается, она налетала на него таким горячим вихрем слов, жестов, сверкающих глаз, что он поневоле и разом сдавался…
XXI
ПЕРВЫЙ УДАР ПО СТАРОМУ МИРУ
Митрич совсем было собрался уезжать с солнечного берега. Острые капризы жены — ко всему прочему, она по-прежнему очень тяжело проходила опасный для женщины возраст, — неустанные нападения всякого зверья, которые нужно было отбивать и которые делали безубойное питание тут совершенно немыслимым, ужасная тяжесть этой жизни на новых местах, когда за фунтом макарон или керосина часто надо было идти пешком семь верст каменистым морским берегом и, наконец, все растущая распущенность его многочисленной детворы, за которой в этих условиях прямо уследить было нельзя, — все это вместе взятое гнало его с солнечного берега, хотя за наем дома и земли он заплатил за год вперед. И он раздумывал, куда и как ему теперь ехать, как вдруг на побережье приехал его старый и близкий друг Евгений Иванович. Он все никак не мог справиться с угнетавшим его душевным разладом и решил проветриться, навестить старого приятеля и кстати посмотреть на дела молодой коммуны. Теоретически в успех ее он совершенно не верил, но сомневался, как всегда, и в себе: а вдруг он что-нибудь просмотрел? А вдруг он в чем-нибудь ошибается? А вдруг — это было самое главное, что смущало его всегда в делах человеческих, — а вдруг эти люди знают что-то такое особенное, что от него скрыто? Ведь почему-нибудь они так уверены вот в себе. Он во всем колеблется, а Георгиевский пишет с полной уверенностью устав нового общежития…
И он с Митричем, который был ему очень рад, несмотря на то, что Евгений Иванович, сочувствуя Джорджу, все же никак не мог поверить, что в этом все спасение, — они ходили к новым коммунистам, но после второго посещения Георгиевского Евгений Иванович совершенно перестал интересоваться делом и у себя в карманной книжке записал бегло:
«Мы, всущности, ничего не умеем. Наша мысль работает на холостом ходу. У меня дело ведет дворник Василий, а я не знаю даже, правилен ли счет, поданный мне водопроводчиком. Отними у Петра Николаевича чернильницу, он будет как рыба на берегу. Речи, статьи, книжки, дневники… А дело, которое кормит, обувает, одевает, просвещает людей, укрывает их в непогоду?.. Как же перевести мысль с холостого хода на рабочий?..»
Солнечной, пахнущей теплою пылью дорогой, что вилась у подошвы Тхачугучуга, Евгений Иванович и Митрич шли куда глаза глядят. Евгений Иванович наслаждался морскими далями, а Митрич проникновенно обсуждал предстоящую ему, как он называл, новую реформу жизни. Здесь жизнь прямо не по силам, вернуться в город и отдать детей в учебные заведения совершенно недопустимо, что же делать? Теперь он решал этот вопрос так: как ни тяжела эта сделка с совестью, но необходимо продать дом в Москве и купить небольшой участок земли где-нибудь под Окшинском, но не в деревне, где тоже жить очень трудно, а как-нибудь на отлете. Это компромисс, но иного выхода он не видит. Ренту обществу за землю он, как и прежде, будет, конечно, платить добросовестно, а что касается до этого удаления от народа, то что же — он откровенно признается, что слаб, пусть его люди презирают, но иначе он не может пока…
Из — за поворота дороги навстречу им вдруг вышел Сергей Васильевич с лицом измученным и измятым. Видно было сразу, что он не спал всю ночь.
— А я к вам было шел… — сказал он, смущенно здороваясь.
— Что такое? — спросил, пожимая ему руку, Митрич участливо. Сергей Васильевич немного поколебался.
— Евгения Михайловна… ушла… — сказал он тихо.
— То есть как — ушла? — спросил Митрич, недоумевая.
— Так ушла… совсем ушла… — отвечал тот, видимо, стыдясь этого. — С Георгиевским в его коммуну…
— Нельзя сказать, чтобы это было очень красиво со стороны Георгиевского… — заметил Митрич раздумчиво.
— Нет, почему же? — вяло возразил Сергей Васильевич. — Всякий идет туда, где ему кажется лучше… А я, знаете, шел к вам с просьбой, Митрич… Мне надо… мне хочется уехать отсюда поскорее… так вот не будете ли вы добры, голубчик, распорядиться у меня обо всем? Ну, передать хозяину квартиру… чтобы прислуга собрала там все… А вещи отправите в Петербург… Можно?
— Конечно, сделаю все… А вы когда же едете?
— Да вот я сейчас так и иду… За чемоданом я пришлю лошадь из Береговой… Хорошо?
— Хорошо, хорошо. Все улажу, не беспокойтесь… Сергей Васильевич пожал обоим руки.
— Ну, прощайте, до свидания… — взволнованно проговорил он и вдруг, точно поборов внутреннее сопротивление, прибавил: — Мне не хочется, чтоб у вас обоих… составилось ложное представление… мне хочется, чтобы вы поняли… Ну, Евгения Михайловна уходит в новую жизнь, как она пишет. Это ее право. Я ее не виню нисколько. Это ее дело… Но я… не могу оставаться тут… Все как-то очень уж изменилось… непривычно… Вот и все… Вы понимаете?
Большой и волосатый человек этот был бледен теперь, и губы его дрожали, и это было понятнее того, что он говорил. Он еще раз простился с приятелями и пошел по дороге в Береговую. А дальше куда? Он шел и сам не знал еще. Мир представился ему вдруг страшно широким и везде пустым.
«В Петербург, пока не кончится срок высылки, нельзя… — думал он. — Можно ехать в Канаду, в Новую Зеландию, например… Или куда-нибудь на острова Тихого Океана… как Миклухо-Маклай…»
И ему представилась широкая голубая гладь океана и букеты великолепных пальм по маленьким островкам, и его одинокая хижинка на берегу серебряного потока. И на глазах его навернулись слезы…
— Надо зайти… — сказал Митрич, когда они подошли к повороту дороги на дачку Сергея Васильевича.
— Хорошо… — сказал Евгений Иванович, которому было жаль этого огромного волосатого человека, который, повесив голову, шагал теперь вдали, огибая солнечной дорогой подошву огромного Тхачугучуга.
В маленьком домике, спрятавшемся в дубовой роще, был страшный беспорядок, точно после погрома. Мебель стояла как попало. В одном углу столовой валялась куча грязного белья. Ветерок шевелил страницы книги, раскрытой на столе, а около книги стоял недопитый стакан чаю и горела оплывшая, забытая с ночи свеча…
— Вот тебе и золотые дворцы!.. — невольно пробормотал Евгений Иванович.
Митрич промолчал. Ему было жутко и нехорошо.
Митрич, смущаясь чрезвычайно, отдал несколько путаных распоряжений прислуге Станкевичей Кате, сонной хохлушке из Геленджика, с взбитыми волосами и каким-то круглым задом, которым она виляла туда и сюда и, видимо, этим искусством очень гордилась.
— Ну а теперь пойдемте к дому… — сказал он, подавив вздох. — Здесь делать больше нечего…
Он заметил догоравшую свечу и, надев шляпу, подошел к ней и потушил. И точно что кончилось тут… Неподалеку в ущелье тяжело охнул взрыв — то все дед Бурка старался…
XXII
«ЖИВАЯ ВОДА»
На долю Георгиевского выпали тяжелые дни. Собственно, рекогносцировка была произведена, но возвращаться в Петербург для доклада съезду пайщиков было просто-напросто не с чем. Надо было от слов переходить теперь же к делу, но как и к чему переходить, было не совсем ясно. Желающих вступить в коммуну было человек сорок — все больше горожане, — но всех денег, кроме его шести тысяч четырехсот рублей, собиралось только три тысячи. Богатые же сочувственники — они у него, действительно, были — продолжали очень сочувствовать, но от настоящей помощи делу подло уклонялись.
Его выручил случай.
Верстах в двадцати от побережья на Лисьих Горах года четыре тому назад сел на землю один толстовец. За четыре года жизнь на земле до такой степени набила ему оскомину, что он готов был чуть не даром передать все свое хозяйство первому встречному. Тем более было это необходимо, что деньжонки свои он успел уже за это время пораструсить, и будущее ему что-то не улыбалось. Быстро, в два слова Георгиевский без всяких документов — было бы в высшей степени странно нарушать человеческие отношения актом явного недоверия, то есть купчей у нотариуса — взял все его хозяйство и землю за себя с обязательством выплатить стоимость его постепенно ежегодными взносами. Страшно обрадованный толстовец унесся вдаль, а коммунисты вступили во владение своим имением. Вместо пятисот десятин земли на берегу моря у них оказалось всего двадцать десятин очень далеко от моря, вместо золотых дворцов — сумрачный домик в четыре комнаты и беспорядочные надворные постройки, которые красноречиво говорили о том, что хозяин, их воздвигший, или больше заботился о небесном, чем о земном, или же в хозяйстве он совершенно ничего не понимал; вместо всевозможных, самых усовершенствованных машин — один плуг, сломанный рандаль и сломанная же рядовая сеялка. Всего этого было мало, все это было чрезвычайно мизерно, но, по словам Георгиевского, это для начала дела было, пожалуй, даже и лучше: какая заслуга в том, что, получив большие деньги от богатых буржуев, они поставят на них великолепное хозяйство? В конце концов тут могли быть — и вполне основательно — нарекания, что на готовое-то всякий может. Нет, лучше начать вот так, скромно и из ничего трудом, энергией, знаниями создать то, о чем никому никогда не снилось!