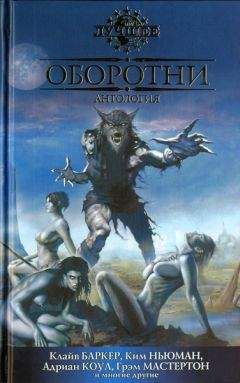Иван Наживин - Распутин
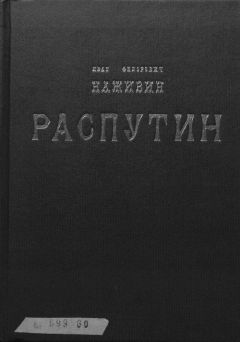
Обзор книги Иван Наживин - Распутин
Иван Наживин
РАСПУТИН
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
РАСТАЩИХА
Закинув ружье за спину, Евгений Иванович вышел из избы на улицу. Его рослый желто-пегий породистый Мурат прыгал, визжал от нетерпения и смотрел на своего хозяина заискивающими глазами: он был уверен, что они пойдут опять по тетеревам. Костачок — взъерошенный худощавый мужичонка с глупым лицом и грязный выше всякой меры — провожал тороватого гостя. Евгений Иванович невольно остановился: над синей лесной пустыней, затянувшей весь горизонт, в тихом сиянии летнего вечера стояли два огромных и страшных, как привидения, столба дыма.
— Что это? Опять пожар в лесах? — спросил Евгений Иванович.
— Пастушата, знать, зажгли… — равнодушно отвечал Костачок. — Известно: сушь…
— Экое безобразие! — сумрачно пробормотал Евгений Иванович, и его серые глаза приняли на минуту свойственное им мученическое выражение. — Как это только вам своего добра не жалко!
— Так лес ведь казенный, Евгений Иванович… — сказал Костачок. — Эва тут его сколько! Море!.. Опять вырастет…
Евгений Иванович ничего не сказал: бесполезно… Он поправил тяжелый ягдташ, в котором лежали взятые за две зари тетерева, и сказал:
— Ну, прощай пока, Константин…
В отличие от других городских охотников он никогда не звал их сторожа Костачком, как прозвали его господа.
— Я провожу вас до околицы, Евгений Иванович… — сказал тот. — А может, лошадку все же запречь?
— Нет, нет, я не устал… — отвечал Евгений Иванович. — И с удовольствием пройдусь пешком…
— Как угодно… Так я провожу вас маленько…
Они пошли деревенской улицей, освещенной косыми лучами вечернего солнца. Деревня была небольшая, дворов всего десять, но и из них половина была заколочена наглухо: хозяева побросали дедовские пашни и перебрались в города. Две крайних избы и совсем завалились и густо поросли горько пахнущей крапивой и огромными лопухами. Золотушные немытые ребятишки возились в пахучей и теплой пыли пустынной улицы. Тощая и вся искусанная собака, поджав хвост, опасливо лаяла издали на Мурата… Евгения Ивановича всегда охватывала какая-то щемящая жуть при виде этой явно умиравшей деревни.
— Ну и неказиста ваша Лопухинка! — сказал он, только чтобы не молчать.
— Чего там! — охотно согласился Костачок. — Ее теперь никто, почитай, Лопухинкой-то уж и не зовет, а все больше Растащихой…
И он засмеялся: ему нравилось меткое прозвище его деревни.
У серенькой развалившейся околицы они расстались, и Евгений Иванович бодро зашагал крепкой и звонкой тропинкой. Все кругом сияло золотистым вечерним светом. Мурат с наслаждением носился по низкорослому кустарнику, который засел вкруг ярового поля. Хозяин не обращал на своего любимца никакого внимания теперь — он думал свое…
Евгений Иванович был теперь уже совсем свой в этом лесном краю. Его отец был из бедных крестьян Ярославской губернии. Еще молодым парнем он бросил землю и семью и ушел, как в тех местах и полагается, в Москву. Там он поступил шестеркой в дешевый трактир на окраине города. Парень развертистый и ловкий, он отличался большой смелостью в достижении поставленных им себе целей: если какой гость крепко подгуляет, он сдерет с него вдвое, при сдаче обсчитает как его, так по возможности и зоркого хозяина, а когда пьяненький гость задремлет за столом, он не постеснится вытащить у него и кошелек. «Смотри в оба, а зри — в три», — со смехом говорили шестерки. Так, по крайней мере, рассказывали о начале его карьеры его однодеревенцы, которые жгуче завидовали его быстрым успехам на жизненном поприще. Так это было или не так, никто достоверно, конечно, не знал, но во всяком случае молодой ярославец очень быстро оперился, хорошо — с большим приданым — женился, а когда родился у него сын Евгений, он уже был владельцем одного из самых крупных трактиров Москвы, очень любимого купечеством, а потом вскоре и большого водочного завода. Успех вскружил голову энергичному промышленнику, и он стал крепко запивать — чертить, как говорили москвичи, — и часто допивался до белой горячки, когда пугал домашних своим диким видом и ловил чертей. К нему привозили и знаменитых докторов, и всяких гипнотизеров, и молебны над ним служили, но ничто не помогало. В конце концов из Кронштадта был выписан знаменитый в те времена отец Иван Сергеев. Батюшка — в лиловой шелковой рясе, старчески румяный и елейный — откушал заготовленной ему по обычаю зернистой икры с калачиком, запил ее хорошей мадерой, затем стал говорить привычные душеспасительные речи, а потом истово помолился о здравии и спасении болящего раба Божия Иоанна. Затем, побеседовав опять прилично с домашними и получив пятьсот рублей — его обычный гонорар, — батюшка уехал, а раб Божий Иоанн зачертил еще более и чрез три дня умер от удара в публичном доме совсем голый…
Евгений Иванович был в это время уже студентом четвертого курса, но учился он вяло, рассеянно и без охоты. Как только умер отец, он в полном согласии с матерью — она была из небогатой, но старинной, кондовой московской купеческой семьи — ликвидировал все дела покойного, чтобы переселиться куда потише, поспокойнее. В свои края им не хотелось — там были бы они слишком на виду — и вот они уехали в Окшинск, небольшой губернский город недалеко от Москвы, где и купили себе хорошую усадьбу с несколькими старинными, уютными и обжитыми домами на зеленом обрыве над светлой ширью тихой красавицы Окши. И дома эти давали хороший по провинции доход, были деньги и в банке у них, а жили они тихо и скромно. Потом Евгений Иванович женился на бедной девушке, дочери местного прокурора, бросившей для него высшие курсы. И чтобы что-нибудь делать, он стал издавать газету…
Теперь ему было уже за тридцать. Он был довольно высокого роста, по-мужицки крепок костью, но что-то было во всей его фигуре надломленное, и иногда его серые глаза и все это тихое лицо с небольшой белокурой бородкой принимало вдруг мученическое выражение. Разговорчив он никогда не был, а с течением лет как-то замолкал все более и более, все более и более отходил от суетливой и для него утомительной жизни людей в свои думы. Может быть, и охоту и рыбную ловлю любил он больше всего за то, что это давало ему повод уходить от людей в молчание зеленых пустынь. Ведение газеты он очень скоро бросил: у него не оказалось ни достаточной выдержки для этого, ни такта в сношениях с местной администрацией, которая, конечно, видела в самом существовании газеты какое-то личное для себя оскорбление и старалась ей вредить из всех сил с первого же дня ее существования. И Евгений Иванович передал газету своим сотрудникам, ограничиваясь только тем, что иногда шел вечерком поболтать с ними часок, а в конце года охотно, просто и без разговоров покрывал обязательный дефицит ее: Окшинск был городок небольшой и тихий, читать не любил, а окрестные крестьяне, когда «Окшинский голос» попадал им случайно в руки, или оклеивали его листами свои избы, думая, что это очень красиво, или искуривали его.
Думы Евгения Ивановича были двух сортов: одни обыкновенные, повседневные и простые, которые он иногда высказывал даже с охотой, — это были те думы, которыми жило тогда все культурное русское общество, веруя в их истинность, терпя за них всякие заушения, уповая на них, как на каменную гору; другие думы были у него свои собственные, особенные, которым он не совсем и сам доверял, которых и сам иногда боялся, но от которых уйти было некуда, думы, одна другой противоречащие, думы-вопросы, на которые не всегда было можно найти ответ, думы часто ядовитые. Об этих думах своих он не говорил никому — разве только иногда вырывались они в минуту раздражения, горечи, тоски, но и тут он быстро спохватывался, запирал их в себе, и вот в эти-то моменты и проступало в его глазах мученическое выражение. Люди же в таких случаях смотрели на него с недоумением и между собой звали его оригиналом и чудаком, а иногда и вертели выразительно около лба пальцами, показывая, что у него в голове не все в порядке…
Дорога шла бесконечной, казалось, и унылой вырубкой, охватившей тысячи и тысячи десятин: всюду, куда ни кинешь взгляд, виднелись бесконечные тысячи серых мертвых пеньков — точно поле битвы, усеянное мертвыми черепами. И по этому мертвому полю чуть заметными канавками тянулись заплывшие уже старые межи: видно было, что некогда тут была пашня, которую мужики забросили, и она взялась лесом. Когда лес немножко поднялся, крестьяне вырубили его, конечно, а по пенькам стали пасти скот, который вытаптывал и выедал молодую поросль, и мертвая вырубка так и оставалась навеки мертвой вырубкой, по которой рос только жесткий белоус, пунцовый иван-чай да местами, вкруг пеньков, брусника. Скот с такого пастбища возвращался домой голодным и измученным жаждой: источники все давно пересохли, и только несколько ржавых болотцев освежали еще эту мертвую пустыню, этот гигантский хозяйственный нуль. Но и болотца усыхали все более и более, и старики утверждали, что тихой красавицы Окши за последние годы и узнать стало нельзя: до того она обмелела.