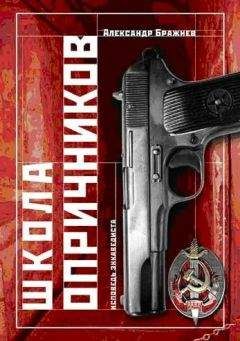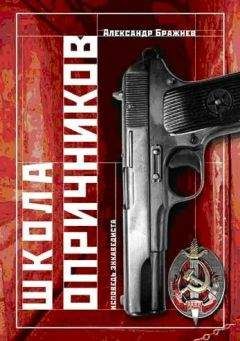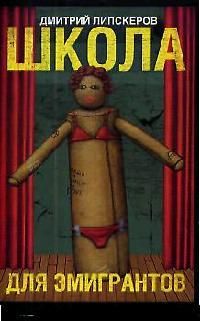Тулепберген Каипбергенов - Неприкаянные
Поэтому, утерев губы, старший бий посмотрел на Мамана испытующе: мол, соединяешься с Орынбаем или не соединяешься? Помню сказанное до трапезы и жду ответа.
Не любил Маман путаных троп, не скрывался ни пешим, ни на коне в густых камышах, и если умолчал о своем намерении, то только из желания заставить гостя задуматься над тем, что сам творит и в какую сторону направляет собственный арык. Подумал, видно, Айдос о том, жуя сазана, а потому можно теперь и сказать прямо:
— Не соединюсь с Орынбаем. И с Туремуратом-суфи не соединюсь. Однако и с тобой не пойду к хивинскому хану.
Отлегло от сердца у Айдоса. «Не со мной Маман, но и не с моими врагами. Судьба народа все же дорога ему — не хочет лить кровь каракалпаков».
Рано, однако, успокоился Айдос. Непрост был хозяин. Спросил, испытующе глядя на гостя:
— Айдос-бий, может, отречетесь от Хивы, вступите на путь, завещанный нам предками?
Страшного потребовал Маман. Волею Хивы стал ханом старший бий, ее же волей рождается каракалпакское ханство.
— Отречься от Хивы, — сказал упавшим голосом Айдос, — это насыпать песок в глаза благодетелю своего народа. Ослепить его, того, кто взялся быть нашим поводырем. Солнце-то ведь черное над степью.
Понял Маман, что напрасно повторил сказанное в юрте совета: не волен в выборе пути старший бий. Аркан у него на шее. Сам его накинул на себя или Хива накинула, о том трудно судить, только крепко накинут, и сорвать его не под силу никому. Все же пытался Маман сорвать его. Упрямство, что ли, взыграло или осмелел вдруг и наперекор решил идти и Айдосу, и Хиве, и Бухаре. Сказал он:
— Нам поводырь не нужен. У нас белое солнце. Сами видим дорогу и знаем, куда она ведет.
— Светила разные у нас, — сказал Айдос, — а ненастье одинаковое. В ненастье же поводырь нужен.
— Нет, — возразил Маман. — В ненастье поводырь не поможет, поможет бескорыстный друг — заслонит нас могучим крылом, смахнет темную завесу…
«Хива заслонит в ненастье своим могучим крылом», — хотел сказать Айдос и, не будь перед ним умного и прозорливого Мамана, сказал бы, назвал Хиву могучей, бескорыстной назвал бы, даже доброй.
Найдет ли народ наш такого бескорыстного друга? — неведомо кого спросил Айдос, должно быть самого себя, и задумался.
Маман, однако, понял, что к нему обращены слова гостя, и ответил:
— Народ давно нашел такого друга… Россия! — подсказал Айдос.
— Да, Россия.
Усомнился в искренности хозяина старший бий. Кто испытал бескорыстие и доброту России?
Бросил вроде бы повод Маману старший бий: веди коня, если сумеешь. Уверен был, не возьмет повод «русский бий». А он взял да и повел коня.
— Казахи! Испытали они и бескорыстность, и доброту русских. Не совершали русские набегов на казахскую степь, не грабили аулы, не обкладывали данью.
— Это пока нужды нет.
— Нет нужды и не будет. Велика и богата Россия, на что ей голые степи и голодные степняки! На что России наш сухой камыш или колючий янтак, когда у нее тучные поля и богатые леса! Хлеб-то в России не из проса и не из джугары, а из ржи и пшеницы. Пробовали мы хлеб русский.
Вел коня Маман. Смело вел. А когда в седле бий, остановишь ли его…
— Богат ли, беден ли хан, рука его тянется к чужому котлу, — попытался остановить Мамана старший бий. — Или русский хан без руки?
Не остановился Маман:
— Да не тянется он к нашему котлу. Не грабит малые народы. И татары, и мордва, и чуваши живут под крылом России. Не ссорясь друг с другом живут, не грызя горло соседа, не разоряя аулы братьев…
Выходило так, что под властью России воцарился бы мир и в семье старшего бия. На песню все же походили слова Мамана.
А старшему бию где жить? Что делать с его ханством, с его аулом, уже названным городом каракалпаков? Нет, не умеет Айдос брать в руки несуществующее. Он должен чувствовать под собой землю, когда идет, и стремя, когда садится на коня. Не воздух сжимать в кулаке, а ремённый повод, гнать скакуна не в голую степь, а к аулу.
— Добра Россия, — согласился Айдос. — Верю тебе, Маман, дедам нашим верю. Только далека эта доброта; пока до нее доскачешь, одной жизни не хватит и ста коней не хватит. А седина уже посеребрила бороду, к закату движется мое солнце.
— Пока не оседлал коня, дорога кажется бесконечной, — улыбнулся Маман. — Влезешь в седло — увидишь конец пути. Оседлай коня, Айдос-бий!
— Если оседлаю и увижу конец пути, то, вернувшись, увижу ли степь свою и своих степняков? Не развеет ли ветер вражды аулы и не положит ли в могилы самих каракалпаков? Добытую доброту куда деть-то? Святым камнем положить на могилу… Так ведь…
— О печальном думаешь, Айдос, — погрустнел Маман. — Весь народ не ляжет в могилу. Вражда, как и кровь, иссякает, зло не вечно.
— Верно, не вечно, но на одну жизнь его хватает. Жизнь-то коротка, дорогой Маман… Нужно успеть добыть доброту, пока не упал под ноги коню…
Понял Маман, что не оседлает коня Айдос, не поскачет на север, а раз не поскачет, то и уговаривать его незачем.
Отогрелись гости, подкрепились рыбой, побаловались чаем, теперь можно и отпустить их.
Айдос поблагодарил Мамана за угощение и за слова, сказанные гостем. Спросил:
— Не обижу ли хозяина, заглянув по пути в юрту Гулимбета- соксанара?
— Желание гостя — закон, — ответил Маман. — Любая юрта открыта для Айдос-бия. Счастлив будет степняк, в дом которого войдет старший бий каракалпаков.
— Калым за дочь его Першигуль уплачен, — пояснил Айдос, — а жених умер. Возьмем девушку для младшего сына Али.
— Куплена, значит, можно взять, — кивнул Маман. — Возвращать калым Гулимбет не захочет. Беден старик…
Не в юрте жил Гулимбет, Считающий просо, а в низкой мазанке, занесенной сплошь снегом. Снега было так много, что ни стен, ни окошек не видно — один сугроб, из которого вился живой пахучий дымок. По дымку путник и нашел мазанку Гулимбета и угадал, дома ли хозяин.
Дома был хозяин. Вся семья была дома. В темноте — оконце заснежено густо, лучик дневной не пробьется — Айдос не сразу разглядел лица людей.
— Мир дому вашему! — сказал Айдос.
— Мир! — повторил Доспан, тенью шедший за своим хозяином.
Женщины вскочили с паласа. Першигуль торопливо прикрыла рот углом красного платка, с которым не расстается каракалпачка ни в каких случаях жизни.
Как ни тороплива, однако, была Першигуль, успел увидеть Айдос при свете очага лицо ее, скуластое чуточку, с пылающими румянцем щеками. Глаза широко поставленные, яркие и смелые. Увидел и поразился их красоте. Губы тоже приметил, пухлые, требовательные, смущающие не только юного, но и уже седеющего, как Айдос, степняка. Стройна была.
«Дорогая невеста, — подумал бий. — Носителя счастья и богатства за нее мало отдать». Но, мысленно произнеся имя быка, тут же поправил себя: «Носитель счастья — священный бык. Цепы ему нет. За него можно взять трех таких Першигуль».
Доспан тоже увидел дочь Гулимбета, прежде чем она заслонила губы и нос платком, и тоже поразился дерзкой красоте Першигуль. Конечно, красотой своей она не затмила Кумар. С нежной, прекрасной Кумар никто не мог сравниться. Никто не мог изгнать из сердца До- спана дочь Есенгельды, как не мог отнять у него серебряный кружочек, подаренный Кумар. Но дочь Гулимбета была все же хороша, и отвести от нее взгляд было трудно.
Гулимбет! — сказал Айдос хозяину дома, который стоял рядом. — Жив ли бык, носитель счастья и богатства, уплаченный тебе как главный калым?
— Жив, мой бий.
— Где он?
— В хлеву.
— В чьем хлеву?
— Моем.
— А где дочь твоя, Першигуль, за которую внесен калым?
— В моем доме.
— Верно, в твоем доме, — подтвердил Айдос. — А место ее в доме Али.
— Да, да, — залепетал Гулимбет. — В доме Али, но сын его Жалий умер. Не на могилу же вести Першигуль…
— Если не хочешь отдать дочь Али, то верни ему быка счастья.
Съежился Гулимбет: из высокого превратился в низкого. Снизу просяще глянул на старшего бия.
— Разреши оставить у себя быка, Айдос-бий. Нет у меня другого помощника, нет у меня другого богатства.
Айдос положил руку на согбенные плечи Гулимбета. С сочувствием сказал:
— Знаю. Однако к чести ли степняку утаивать чужое. Верни быка хозяину или отдай дочь за младшего сына Али, юного Омара. Приехал я к тебе не бием старшим, а сватом. Уразумел, о чем веду речь?
— Уразумел, мой бий.
— Подумай, Гулимбет!
Соксанар замахал руками. Считающий просо умел быстро определять, что ему выгодно и что невыгодно.
— Зачем думать! Бери дочь.
Першигуль и бровью не повела, услышав приговор отца. Будто не ее судьбу решали, а чью-то другую. Будто спорили не о человеке, а о быке, том самом, что стоял в хлеву. Доспан, правда, заметил, как потускнел взгляд Першигуль, как жалостливо посмотрела она на Айдоса: не пощадил ее старший бий — не спросил согласия у ее сердца.