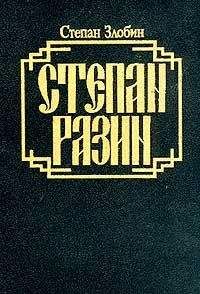Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
– Тьфу, тьфу. Не слушайте его, заткните уши. В тысячу крат лучше от обрезанного слышать о Христе, нежели от необрезанного иудейство. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытайте духов, от Бога ли они. Близ самовольных все вокруг полно демонов. – Епифаний говорил истиха, он как бы проливал слова, и даже в ярости они истекали кругло, но и твердо, обстоятельно, без той приторной елейности, что раскрывают людей неискренних и коварных. Епифаний умел ровным звуком прободить и победить самый шумный и грозный рык. Есть на миру такие люди, что обстоятельной повадкою, своей несуетностью и ровностью характера всегда оказываются наверху, как бы ни колготились иные вокруг, как бы ни полыхали особенно неугомонные и неутомимые, но все понапрасну, ибо последнее слово за тихими. Епифаний вмешался в орацию настоятеля, не пугаясь гонений: истинный монах не ведает несвободы. Он и в юзах волен, как небесная птица.
– Ты, старец, приклякиваешь на себя царское имя. А знаешь ли ты о видении преподобного Макария Египетского?
– Знаю... Не менее тебя пивал из книжных премудростей.
– Тогда прости смиренно. Я братцам скажу. Вот, значится, шел диавол. Самый натуральный диавол шел искушать братию. Он всегда возле, только зазевайся. И весь-то диавол был обвешан некими сосудами. Великий старец Макарий спросил его: «Куда идешь?» И сатана отвечал: «Иду навестить братию». – «Для чего же у тебя сии сосуды?» – спросил опять старец. Диавол отвечал: «Несу пишу для братии». Старец спросил: «И все это с пищею?» – «Да, – отвечал сатана, – если кому одно не понравится, дам другое; если не это, дам еще иное»... И вот я спрошу: ежли вам в какой букве не занравился Никон-еретик, ежли вы его разлучили с истинной церковью и жизнью своей заступились за веру христианскую, то сами из какого сатанинского сосуда решили откушать? Или вам мало того духовного пития, коим услаждались и наши предки? Вы грехами решили облиться, как елеем и нардом, вы самого Иуду, проклятого вовеки, посадили одесную с Христом. Дак как жить-то вам после этого? Вы со зверьми лютыми уравнялись...
– Глупенькой, ой глупенькой. Христос сам Иуде задал путь. Оттого и не открыл ученикам своим. Сидишь на острову, как филин, и с той кочки на свой мерзкий пуп уставился, как на икону Спасителя. И чего с тебя взять? Мы не за грехи стоим, коими, словно помоями, залит весь мир, а мы из греха хотим выбраться. Ты сам гоним и всяко гонимых попрекаешь и понуждаешь ереститься. С того и не любит тебя братия, что у последнего нищего отымаешь полушку, нечестивый. Мы в крайней нужде находимся. А человек в нужде свободен, он бежит законов, и властей, и никониан-еретиков. И всюду прав.
– Нас отцы за грехи простят, в райско место поместят, – вмешался Ефимко, оскалившись.
– Погоди-ко, не встревай. Без греха нет покаяния, без покаяния нет спасения. В раю много будет грешников, только там не будет ни одного еретика. Вот ты, братец, всяко нас клянешь за девок, что возле пасутся. Знай же, что нынче брака нет, и все, кто в никонианских храмах повенчаны, – прелюбодеи истинные, еретики. Вроде бы по законам живут, а не чувствуют мук душевных за свой грех и не каются, нечестивые. Но падший от немощи естества плачется сердцем, стонет ночами и всяко просит Бога простить его, заблудшую овчу, и своими стенаниями он выращивает в небо широколистый дуб до самого райского престола. Ученики мои верные, – простер руку Учитель, а после широко обвел ею по келейке, вроде бы подымая с колен всех заблудших никониан, хотя в изобке-то кроме багроволицего Ефимки ссутулились тусклые, преклоненные летами, измозглые плотию старцы; но даже и у тех от пространственной орации настоятеля вздернулись ковыльные, сседа брови и в потухших глазах зашаяло уголье. – Братцы молитвенные, грешите, как доведется. Тайно содеянное – тайно и судится. Ибо тайна брака истребися и ложе свободно...
– Ой-ой-ой, – простонал инок Епифаний, как подстреленный голубь.
– Ха-ха-ха! – загорготал эконом и, поднявшись с лавки, как бы принакрыл отшельника широкими плечами. – Монасе! Да лучше иметь сто блудниц, нежели брачиться. Я и девку свою сюда привел. Говорю, спасайся, Епистолия, услаждай похотное червие, истоми утробу свою блудным огнем – и спасешься. Иль не так, Учитель?
– Воистину так. Пусть все друг друга возлюбят и чада от любви тоей побредут по весям, как наши апостолы, возвещая народу о спасении через грех.
– По апостолу брак честен и ложе нескверно, – стоял на своем Епифаний. – Где нет супружества, там блуд, там нет отца-матери, а где нет отца-матери, там нет и никаких сродников. Откуда бы тогда родился Ной, праотец наш? Откуда бы Авраам, Исаак, Иаков, Предтеча Иоанн, Никола и прочие святые? Все от законного супружества задолго до Христа. Вы на церкву никонианскую ополчились, а встали противу заветов. Церковь бо не стены церковные, а покров, вера и житие. Закоим скверною нечестивого блуда поливать Христа, живущего в сердце нашем? Ми-ла-и-и! Это черт вас поманул.
Епифаний мягко, кротко рассмеялся, как всхлипнул.
– Лучше со ста животными смеситься, нежели никонианским браком жену иметь, – снова загорготал Ефимко, на какой-то миг выскочил из келейки и вот уже волокет за косу послушницу Хионию, словно бы стояла девка за дверью и подгадывала той минуты. Ефимко поставил Хионию посреди кельи, заломил голову назад и сочно, грубо, с вызовом впился в ее вишенные напрягшиеся губы. Казалось, кровь тут хлынет ручьем. И спросил, победно оглядев всех, но особливо задержав взгляд на Феодоре, словно бы слышал его тайную муку:
– Ну, девка, и сладко тебе было ночью со мною?
– Сладко, батюшко родимый. Слаже медового вишенья.
Юродивый вцепился за литой верижный крест, моля о спасении заблудшей души, и тонкие пальцы сбелели. Феодор, раздувая широко взрезанные ноздри, что-то гугниво затянул на одном бессмысленном звуке. Внутри его все плакало и стенало.
– А я што баял? Слыхали?.. Го-го-го, – заржал эконом, и смолевая борода задымилась от пылающих угольев в темных зенках.
И содрогнулся Феодор, услышав непотребное. Казалось, орда демонов восшумела крылами и расселась по лавкам и на конике у порога и витые рога козлища выросли над чистым восковым лбом послушницы.
– Тьфу, тьфу, тьфу! – замахал юродивый заполошно, заполоскал пред своим лицом рваными рукавами кабата. – Каменье на свинец... На ваши хари непотребные ужо ниспошлет Богородица Заступница каменный град! Весть через меня! Очнитеся, кощунники! – напоследях вскричал Феодор и, громко ступая, выбежал из келеицы, уже верно зная, что навсегда.
– Эво-о поскочил! Застучал черт копытами! – донеслось Феодору в спину.
Глава четвертая
Да нет, помстилось Никону, что царь Алексеюшко, добрая душа, замглился на него, зачужел, отшатнулся, надул губу. Ну мало ли на кого вскричит порою государь, ино и тычка даст дворцовому боярину, и велит волочить в тюрьму на встряску, чтобы, опомнясь, другим же днем спосылывать верховых истопников со сдобной перепечею иль стерляжьей солянкой. Был же такой случай: когда узнали на Москве о поражении Хованского и Нащокина, царь созвал думу и спрашивал: что делать, какими средствами отбиться от страшного врага? Тесть царский, боярин Иван Данилович Милославский, и возгоржался вдруг: «Если государь пожалует дать мне начальство над войском, то я скоро приведу польского короля пленником». От такого хвастовства царь вышел из себя: «Как ты смеешь, страдник, худой человечишко, хвалиться своим искусством в деле ратном? Когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем? Или ты смеешься надо мною?» И в гневе таком дал Алексей Михайлович старому тестю пощечину, надрал за бороду, да и выгнал пинками из комнаты и захлопнул за ним двери. Но другим утром, мучаясь за вспыльчивость свою, послал стряпчих с богатыми подносами.
Дождался Никон на Истре гонца с царской памяткой: печаловался государь: де, патриарха долго нет на Москве и оттого многая поруха и неустрой бывают, и с нетерпением ждет паства твердой и праведной руки; и еще прислал в дар шубу из черных лис, с пухом, под цветной камкою по желтой земле, с двенадцатью золотыми пуговицами с искрами гранеными. И ко времени поспел вестник: Вербное на носу и патриарху не с руки медлить и гоношиться.
Никон по рублю подал каменщикам на Отходной келье, посетил трапезную трудников, из котла-кашника отведал еcтвы – пустоварных щей с тертой редькою, при поварихе нахвалил еду, а после отвел иеромонаха-строителя в келью и там журил с острасткой, грозил батогами и застенкою: де, с такой выти не только дела исправно не свершишь, но и ноги-то протянешь. Велел не жать мошну, с поста свиней колоть.
Да, долгая война и частые зябели и замоки прижали мирского мужика; податями и налогом так утеснили его, что и дыхнуть невмочно, и вот побежал черный крестьянин из тягла куда глаза глядят, лишь бы подале, в понизовья степных рек и на север, где не достанет холопишку господская кабала. И вроде смирен мужик, а глаза прячет; обитель Христу строит, не чинясь со временем, а на молитву уж и слаб, норовит сволынить. Ах ты, Божий русский человек, дитя Христово. А ежели очи отводит мужик, не глядит прямо да голос тишит, норовя в беседе затаиться в усторонок, – значит, тайными недобрыми мыслями полна бедная его головушка. Вот и в лице-то пахаря нет нынче прежней мягкой, открытой доверчивости, когда всем доволен селянин. Сухие скулы, волос тускл от недокорма и нуждишки; даже сквозь вешний плотный загар, сквозь изветренную смуглую шкуру пробивается какая-то вялость и телесная немочь, словно бы в моркотном сне пребывает трудник и не может из-под этого спуда выбраться под солнце и возрадоваться весне всею грудью.