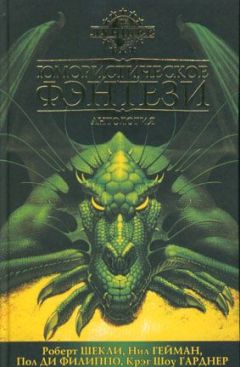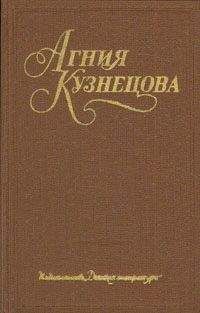Димитр Димов - Осужденные души
– Нет, – сказал он. – Я не люблю виски.
Он сказал «не люблю виски», и это означало, что он согласился бы выпить что-нибудь другое. Фани велела Робинзону принести коньяк. Эредиа выпил четыре рюмки подряд – невоздержанность, которую Фани заметила у него впервые. Потом он закурил сигарету, и его черные глаза мрачно устремились на нее. Она была в тонком белом халате с короткими рукавами. Несколько минут он курил, вперив взгляд в ее обнаженные руки, в упругие и зыбкие округлости ее груди, приподнимавшей халат. Потом вдруг отвел от нее глаза и засмотрелся на степь. Между бровей у него обозначилась складка горького раздумья. Не сознавал ли он, насколько непозволителен для него этот плотский соблазн, насколько глубока пропасть, отделявшая его от бренного мира, от наслаждений, от Фани? Дозволено ли вообще правилами ордена сидеть со светской женщиной за бутылкой коньяка? Но под влиянием физического и нравственного напряжения последних дней он поддался этой слабости, этому мгновенному влечению его девственной плоти к женщине, которая его любила. Но какой горечью, наверное, было приправлено даже это невинное удовольствие – смотреть на нее, зная, что он преступает правила ордена, что никогда не будет ею обладать, что другому дано наслаждение смотреть на нее так каждый день! И может быть, пока он об этом думал, сердце его, по законам любого сердца, сжималось от ревности. Да, в эту минуту – Фани была уверена – он желал ее и ревновал, это была мгновенная, чисто физическая любовь и чисто физическая ревность – порыв плоти, который он допустил вопреки своему обету, вопреки своей воле и разуму. Фани почувствовала глубокую, мстительную радость.
– Где Мюрье? – спросил он.
– Пошел в город… или к маркизу. Не знаю точно.
– Почему вы не ходите вместе с ним?
– Мюрье становится скучен в обществе. Я предпочитаю разговаривать с ним здесь, за рюмкой.
Эредиа улыбнулся снисходительно, точно хотел сказать: «Я знаю, что ваши палатки рядом и что когда-то вы были любовниками; может быть, в часы скуки вы и теперь занимаетесь этим. Но забавляйтесь как вам угодно, это ваше дело». – «А тебя это не интересует?» – злобно спросил ее взгляд. (Лет, ничуть», – ответил он тоже взглядом.
Выражение его лица опять стало спокойным и насмешливым, как в колледже Ареналес, как в день ее приезда сюда, когда он молча, одним взглядом проникал во все ее хитрости. Опять он спрятался в неуязвимую броню презрения к плоти и ко всем земным радостям.
– Мюрье – симпатичный человек, – сказал он равнодушно, как будто только для того, чтобы поддержать разговор. – Это бы заставили его приехать сюда?
– Да, я.
– Он поступил глупо.
– Так же, как и я?
– Еще неразумней. Вы по крайней мере женщина, а он – мужчина.
– Не все так бессердечны, как вы.
– Это, я полагаю, один из многочисленных эпитетов, относящихся ко мне?
– Есть и другие, о которых я предпочитаю умолчать.
– Они мне знакомы по черной легенде, – сказал он весело. – Иногда я готов признать их справедливость. Но я не настолько бессердечен, как вам кажется.
– Знаю… Время от времени вы позволяете себе такое беспутство, как беседу со мной.
– Именно!.. Вы были бы удивлены, если бы узнали, что по правилам ордена это и в самом деле беспутство.
– Тогда зачем вы это делаете?
– Может быть, ради ордена.
– Однако вы откровенничаете очень искусно!
– На то я и иезуит… – рассмеялся он добродушно, а потом вдруг заговорил серьезно, назидательным тоном: – Когда вы разговариваете со мной, не забывайте, что я – духовное лицо. Чувства, которые заставили вас приехать сюда – вас и доктора Мюрье, – не христианские, поэтому вы так рассуждаете. Мне не знакомы эти чувства. Я не имею о них никакого представления… Но, как духовное лицо, я должен их осудить, если вижу, что они ведут кого-то к гибели. Завтра лагерь превратится в ад. Завтра вши расползутся повсюду, и зараза может не пощадить никого. Я приму эту участь как христианин, но вы… вы и Мюрье?
– Разве только христиане могут встретить смерть спокойно? – спросила Фани.
– Да, только христиане, – фанатично подтвердил он. – А истинные христиане – те, кто жертвует собой, чтобы спасти других… я говорю других, но не одного! Вот сердцевина, нерушимая и вечная сущность христианства. Мы здесь, чтобы претворить ее в жизнь. А вы?… Что вас привело – любовь? Но любить только одного человека и забывать ради него других – для нас это эгоизм! Любовь – вы знаете, о каком чувстве я говорю, – это что-то сугубо личное, сугубо противоречащее монашеской этике, недопустимое для нас. Она – наслаждение, увлечение земной жизнью, страсть… и в этом смысле эгоизм!.. В тот вечер вы закрыли меня своим телом от пуль анархистов, но разве вы не хотели спасти меня только для самой себя? Разве вы сделали бы то же самое для кого-нибудь другого? Вот потому для меня такая любовь – эгоизм. Это, разумеется, наш, монашеский взгляд, он не должен вас смущать, он не касается ваших отношений с другими людьми. Мы придерживаемся его, чтобы лучше служить богу.
Он замолчал. Взгляды их опять встретились. Фани улыбнулась печально, беззлобно. Она поняла одно: между ними по-прежнему зияет пропасть и ничто не может ее заполнить. Но она поняла также, что и его тайно терзает сбивчивая логика его мысли, жестокое противоречие между аскетизмом и мгновенным чувством, которое овладело им незадолго до того. Ей пришло в голову, что, прежде чем достичь теперешнего положения в иерархии ордена, он прошел через все фазы иезуитского образования, которое развивает гибкость ума до предела. Он изучал философию, теологию и медицину, искусно владел приемами диспута, занимался в семинарах, но сейчас – расстроенный и угнетенный – вдруг завяз в туманных силлогизмах, в банальных объяснениях, которые могли вызвать у Фани только снисходительную жалость. Он был в смятении и, казалось, улавливал в самой действительности что-то такое, чего не мог постичь до конца ни разумом, ни чувством. И в наступившем молчании он, может быть, все еще думал о той ночи, когда она закрывала его своим телом от дул автоматов. Можно ли было назвать это эгоизмом… с любой точки зрения?
Он нервно тряхнул головой, точно хотел сбросить невидимый железный обруч, который ее сжимал. Фани подумала, что теперь он возьмет себя в руки и продолжит проповедь. Но Эредиа молчал. Лицо его осталось бледным и застывшим. Он по-прежнему сознавал бесплодность логики, с помощью которой хотел убедить ее в том, во что сам не верил до конца и выше чего не мог подняться. Казалось бы, та сила или та вековая иллюзия, что питала его фанатизм, что заставила его отказаться от света и наслаждений жизни, что стояла выше его разума и логики, могла бы мгновенно подавить его сомнения и вернуть ему прежнее спокойствие духа. Но напряжение последних дней с их кровавыми событиями и присутствие Фани начали разрушать эту иллюзию, которой он обычно подчинялся. Он чувствовал себя беспомощным и страдал… Да, страдал, может быть, не столько от пламени только что пережитого им чувства, от противоречий и сомнений, сколько от этого разрушения иллюзии, дававшей его жизни смысл. Он хотел скрыть это, но не сумел. В продолжение нескольких секунд, опьянивших Фани, глаза его говорили: «То, что ты думаешь и чувствуешь, верно, верно… но имеет значение только для нас двоих. Ты никогда не стала бы жертвовать своей жизнью для другого, и именно это говорит о силе твоей любви, а меня терзает и мучает… Может быть, и я люблю тебя так, может быть, и я предпочел бы пожертвовать своей жизнью за тебя, а не за другого, хоть и обманывая себя, будто я делаю это из христианских побуждений. Но это значило бы отступить от смысла и цели моей жизни. Это эгоизм… эгоизм с точки зрения моей логики, моих взглядов и моего чувства бога, которое ты не способна постичь».
И возможно, не будь он монахом, не запрещай ему религия признаваться в своих страстях, немыслимых, недопустимых у монаха, он нарушил бы молчание и сказал бы ей все это словами. Но Фани, читая в его глазах, ясно видела, как аскетическое безумие овладевает им снова. Еще раз он сурово отрекался от любви и от самого себя, чтобы еще полнее отдать свою жизнь ордену, католической церкви, тому жестокому богу, в которого он верил. В его самоотречении было какое-то закосневшее нравственное величие, Фани чувствовала его, но не могла принять, ибо оно отталкивало ее, ибо в ном было что-то жестокое и мрачное, что лишало его всякой ценности, глушило жизнь и убивало в ней всякую радость. Но каким бы ни было это безумие, оно поддерживало Эредиа. Кризис, пережитый им, пока он беседовал с Фани, удвоил его силы. Лицо его стало спокойным и ясным. Глаза опять смотрели фанатически, готовые испепелить любого, дерзнувшего встать на его пути к богу.
– Какому богу вы служите? – вдруг вспылила Фани, оскорбленная ненавистью в его взгляде. – Где этот бог? В траве, в насекомых, в сыпном тифе или в церкви Пенья-Ронды? Или, может быть, в вашем сердце и разуме?… Да разве у вас есть сердце? Нет… Вашего бога не существует!.. Ваш бог – холодная, бесчувственная, пагубная фикция разума, которая владеет вами потому, что у вас нет сердца, потому что она убила в вас все человеческое…