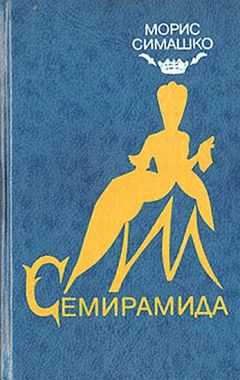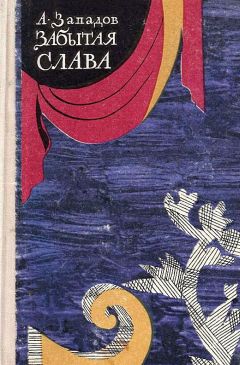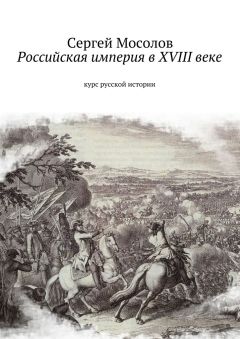Морис Симашко - Семирамида
Корпус генерала Чернышева в пятнадцать тысяч человек с тысячью приданных казаков скорым маршем шел на соединение с прусской армией, приготовленной атаковать австрийцев. К концу дня был объявлен общий привал. Роте капитана Ростовцева-Марьина определен был бивак между дорогой и лесом. Пока составлялись ружья в козлы и устраивался ночлег, он не смотрел по сторонам. Потом вдруг увидел лес, за ним поле, пошел между деревьев…
Да, на том самом месте он стоял. Даже куст рябины был прежний, только разросся в стороны. Тогда, погнавшись за зайцем, он обирал с веток промерзшие ягоды. Сейчас рябина начинала цвести.
У него вдруг забилось сердце. Почудилось: лишь обернется, и все возвратится назад. Снега станет по колено, и молодой, без шапки, будет нести он на руках принцессу с золотыми глазами. А может быть, и не было ничего того, и только услышал сказку…
Он резко повернулся. Там, где располагалась его рота, слышались громкие голоса. Отводя рукой ветви, чтобы не задели голову, где рубанул его пруссак, капитан Ростовцев-Марьин поспешил из леса.
Посредине дороги стоял их полковник Фонвизин и молча пучил глаза. Ему что-то кричал, не слезая с лошади, прусский майор с аксельбантами. Плотной группой теснились королевские гусары на крупнозадых немецких лошадях.
— Чего он хочет? — спросил полковник у едущего с пруссаками русского штабного офицера.
Тот с недоумением посмотрел на полковника, сказал коротко:
— Говорит, что это русское лентяйство — по сорок верст в день идти. Хочет, чтобы скорей…
Пруссак продолжал что-то выкрикивать отрывисто, будто отдавая команду. Съехавшиеся к дороге русские офицеры хмуро приглядывались к гусарам. Фонвизин послушал еще немного, повернулся и пошел дальше по лагерю. Майор осекся на полуслове, помянул тойфеля[8], и пруссаки поскакали назад к реке, откуда приехали.
— Что же это, Петр Иванович немца не понял? — удивился Ростовцев-Марьин. — Тот ему все: фон Визин да фон Визин!
Шемарыкин подумал, подмигнул лукаво:
— А может, и не хочет вовсе понимать его Петр Иванович…
Двенадцатая глава
Стена вспыхнула золотом и пурпуром. Раннее, прямо от короткой летней ночи, солнце било в венецианское стекло, преломляясь в два цвета на светлых шпалерах. Она одна была в Монплезире…
Так теперь совершалось часто. Двор с его величеством и дамами шумно проезжал в Ораниенбаум, а ее оставляли здесь, в Петергофе. Император отложил на неделю войну с Данией, чтобы отпраздновать в день Петра и Павла свое тезоименитство.
Какая-то особенная, первозданная тишина стояла в мире. Но она знала, что это не так. Неслышный ветер продолжал дуть с неослабеваемой силой. И когда застучали колеса по гранитной брусчатке, она не удивилась. Протяжно и гулко заржали кони…
Вошла запыхавшаяся Шаргородская и сразу за ней гвардеец со спокойным лицом. То был Алексей Орлов. Он посмотрел на приготовленное ею парадное платье к завтрашнему тезоименитству, на другое — траурное, чтящее при ширме, потом на расписанный амурами потолок:
— Все готово к началу… матушка-государыня!
Он говорил с серьезностью, даже тени двусмысленности не было у него на лице.
— Что же случилось? — спросила она спокойно.
— Пассек арестован…
Через четверть часа она уже мчалась в дорожной карете. Рядом сидела немая от волнения Шаргородская. Алексей Орлов с кучером нахлестывали лошадей, а на запятках стояли Шкурин и камер-юнкер Бибиков. Ей казалось, что один только миг прошел с тех пор, как истер от границы понес ее в неопределенную даль…
Уже сияли лучистые при солнце шпили, когда увидели встречную коляску. Юный Федор Барятинский осадил свежих лошадей, выпрыгнувший Гришка Орлов взял за руку, перевел ее к себе. Коляска сделала полукруг и покатила впереди кареты. Люди бежали навстречу: мужики, бабы. Первое лицо, что разобрала она, был широконосый солдат Савельев, чьего младенца она крестила. И сразу пришла уверенность…
Они скакали солдатской слободой Измайловского полка. Народ бежал с ними. Едва галопом влетели на квадратный мощенный камнем двор, барабаны ударили тревогу. С неба отзывался усиленный камнем гром.
— Ур-ра-а!.. Матушка-государыня…
Коляска будто вкопанная стала на песчаном плацу посредине двора. Сразу несколько рук подняли ее, поставили на землю. В запыленном траурном платье она улыбалась солдатам, всем видом свидетельствуя о своей правоте. Им, излюбленным полкам великого царя, отдавалась она под защиту.
— Матушка-государыня… Присягу!
Она оглянулась. Гришку оттерли от нее. Одни измайловские мундиры были вокруг. Ей целовали руки, крестились, плакали.
— Присягу!..
Широкое пространство освободилось впереди. Мелкими шажками, в чуть набок надетой епитрахили и с просветленным лицом к ней спешил отец Алексей Михайлов, иерей Измайловского полка.
…В верности… Екатерине Второй, императрице и самодержице всероссийской… и прочая…
Ветер лишь сделался слышнее. Она не удивлялась.
Полковник измайловцев и гетман малороссийский Кирилла Разумовский, опоздавший к собору, твердо подошел, преклонил колена, поцеловал ей руку. «С богом… к семеновцам!»
Теперь вся в черном одна стояла она в старой истертой коляске. Впереди с крестами шли отец Алексой и отец Андрей из слободской церкви. Рядом ехал граф Кирилла Григорьевич с офицерами, по бокам и сзади коляски плотной толпой шли солдаты. «Ура» слышалось в каждом квартале, набирая все новую силу. По Сарскому мосту навстречу, не выпуская ружей, бежали ликующие семеновцы. Не переходя уже Фонтанки, они вместе повернули по Садовой улице к Неве. Сзади догоняли преображенцы.
— Майор Воейков, матушка, задержал нас, так мы его в речку затолкали! — крикнул ей какой-то солдат.
И опять катилось «ура». Елизаветинские лейб-компанцы, которых раскассировали и подменили голштинцами, явились в полной своей форме. Подковный гром нарастал, синим пламенем пылал во всю ширину улицы гранит. Конная гвардия, подойдя на рысях, приняла эскорт и в парадном строю двигалась к Невской перспективе. Все лица были повернуты к ней.
— Всем нам любезной императрице и государыне — ура! — крикнул красавец вахмистр, и она узнала голос. То был Потемкин, которого слышала у Орловых.
— Благословение… благословение божье! — слышалось по рядам.
Оберегаемая с боков и сзади, прошла она в золотую тьму храма. Лишенный плоти, непреклонный в своей правоте лик божьей матери проступал из-за кадильного дыма. Тень самой великой в мире муки убрала с доски все человеческое…
…Государыне императрице и самодержице Екатерине Второй и государю великому князю и наследнику-цесаревичу Павлу Петровичу многая лета!..
Небо из глубины храма казалось сине-розовым. Звезду нельзя было увидеть дважды…
Воздух дрожал от колокольного гула. Измайловский и Семеновский полки беглым шагом распределились вокруг Зимнего дворца, преображенцы занимали внутренние караулы. Вдоль улиц строились роты Ямбургского, Невского, Копорского полков. Она знала всех их по значкам и командирам. С грохотом катилась артиллерии. Подходили и становились сзади дворца полки Лпраханский и Ингерманландский.
От дальних улиц нарастало «ура». Теперь она ехала шагом. Справа на подножке коляски стоял Гришка Орлов, слева — генерал-поручик Вильбуа, прибывший прямо от армии. Сзади ехали граф Кирилла Разумовский, князь Волконский, граф Брюс…
Коляска встала перед дворцом. Она не произнесла еще ни одного слова. Все совершилось чьей-то одной волей.
…Божьим промыслом… императрице и самодержице Екатерине Второй…
Преосвященный Вениамин, архиепископ Санкт-Петербургский, в шитых золотом ризах и с полным клиром обходил по площади войска для присяги. В крепости из-за реки били пушки. Голуби беспорядочно носились в теплом воздухе…
Она всходила по пустым ступеням. В новый дворец не завезли еще и мебели. В нишах темнели провалы. Снизу догонял ее граф Никита Иванович Панин. Он вел за руку восьмилетнего мальчика в белых рейтузах и голубых башмаках. Мальчик дернулся, давая ей руку, нос сморщился в кружок, и некая брезгливость пробежала в ней. Всякий раз происходило узнавание, когда видела сына. Она вывела его на балкон, подняла рядом с собой. Стонущий звук прошел по толпе. Внизу кто-то громко плакал. Она посмотрела туда и чуть не уронила наследника от удивления. То был Алексей Орлов.
Посредине белого зала теперь сидела она, и чуть сзади на стульчике ее сын. Преосвященный Вениамин со светлым лицом принимал присягу у сената и синода, у членов коллегий, сановников, служителей дворца, всех случившихся тут людей. Они шли затем к ней, и она кивала, как научила себя тому много лет назад: всем вместе и как бы всякому отдельно.