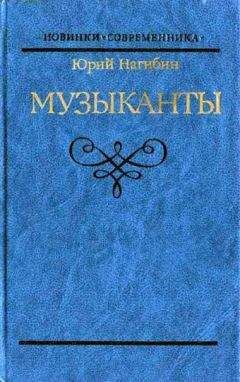Валентин Азерников - Долгорукова
— Князь Василий... Где князь Василий? — сердито вопросил Александр министра двора Адлерберга. — Призвать его немедля. Повели накрыть для него прибор.
Из церкви императорская семья направилась в столовую. Бог знает отчего, но напряжение, нахлынувшее нежданно, ещё во время малого выхода, и продолжавшееся во время службы, не проходило. Токи его исходили от государя. Его насупленность, набрякшие выпуклины глаз, весь его отстранённый вид говорили о раздражённости и недовольстве.
Если бы кто-то очень близкий и дорогой ему спросил, что терзает Александра в этот приснопамятный день, он скорей всего ответил бы кратко: ВСЁ!
Всё было не то и не так. С одной стороны, ему хотелось подписать этот манифест, он слишком долго шёл к этому дню, с самого начала своего царствования, он старался приблизить его как мог. С другой же стороны, на его руках и ногах гирями повисли все эти Панины, Голицыны, Гагарины, Муравьёвы — их в комитетах было большинство. И от них исходила затаённая угроза. И то, чего он добивался, они утопили в оговорках, поправках, примечаниях. Это было вовсе не то, к чему он стремился.
Да, мысленно он вынужден был признать правоту Герцена: «Зверь не убит, он только ошеломлён».
Всего только ошеломлён, и он, самодержавный государь, не смог до конца добить этого зверя, этого хищника, терзавшего русского крестьянина чуть ли не три века.
Застолье длилось в молчании. Великий князь Константин Николаевич провозгласил тост за Государя императора, чьё имя навеки войдёт в историю России под именованием Освободителя. Он жестом пригласил сидящих за столом встать — не все сразу последовали его примеру. Великие князья вели себя вяло, скованность не проходила.
После обеда Александр уединился в кабинете. С ним был только князь Долгоруков.
— Я перечёл твой прежний отчёт, князь Василий. Вот ты писал: «Хотя почти все дворяне недовольны и хотя некоторые из них выражаются иногда с ожесточением, но подозревать их в злоумышленном противодействии правительству или в наклонностях к каким-то тайным замыслам нет ещё оснований. Весь ропот их проистекает от опасений, что достаток их уменьшается, а у многих даже уничтожается, и эти опасения столько близки сердцу каждого, что ропот дворян есть явление весьма естественное».
Александр отложил бумагу и в упор посмотрел на князя.
— Так ты уверен, что тайных замыслов доселе нет? Ах, князь Василий, мой дед и его стражи тоже были уверены, что тайных замыслов нет. И кто его горячей всех уверял в этом? Помнишь ли? Подскажу: граф Палён, глава заговорщиков, лицо, приближённое к государю. Вот и ты лицо, приближённое к государю и его страж. Можешь ли ты, князь, поручиться, что ни в моём ближайшем окружении, ни в гвардейских полках нет заговорщиков.
С этими словами Александр испытующе вперился в Долгорукова, выпуклины его глаз, казалось, вот-вот выскочат из орбит.
Чего-чего, а уж такого вопроса, а лучше сказать допроса шеф жандармов и глава Третьего отделения его величества канцелярии никак не ожидал. Поэтому он смешался и отвечал не сразу.
— Ручаюсь, государь, — наконец выдавил он, — ручаюсь честью, что ни во дворце, ни за его стенами ничего такого быть не может. Преданность вашему величеству и придворных, и гвардейских полков вне всякого сомнения. Помилуйте, можно ли в этом усомниться, — с жаром закончил он. — Мои агенты бдят повсеместно, и ежели случился бы какой-то намёк, то мне было бы немедля доложено. Нет, государь, всё спокойно. Равно и всё предпринято ради полной безопасности царствующей фамилии.
— Что ж, я доволен твоим ответом, — умягчённо проговорил Александр. — Но прошу тебя всё-таки нынче заночевать во дворце. Адлерберги будут тоже...
— Я распорядился задерживать всех подозрительных лиц на въезде в столицу, равно никого не выпускать из неё, — дополнил князь. — Приняты все меры предосторожности на случай возможных беспорядков. Преображенцы и семёновцы заняли все подходы к дворцу, подступы к мостам, к Адмиралтейству...
— Знаю, — перебил его Александр, — мне докладывал князь Суворов.
Долгоруков понял, что петербургский генерал-губернатор опередил его, но отнюдь не сетовал на то. Знал он и о том, что дежурный офицер по Главной придворной конюшне получил приказ направить к Салтыковскому подъезду осёдланных и взнузданных коней с дежурными конюхами. Подъезд этот располагался в той части дворца, которую занимала императорская фамилия, и выходил к Адмиралтейству.
— Ну хорошо, ты покамест свободен, — удовлетворённо произнёс Александр. И доверительно прибавил, отчего-то понизив голос: — Одному тебе доверюсь: ночевать я нынче буду на половине сестры, великой княгини Ольги Николаевны. Лишняя предосторожность никогда не вредит, — закончил он.
Долгоруков кивнул и поклонился.
Глава вторая
КАТЯ, КАТЕНЬКА, КАТЕРИНУШКА...
Во дворце было людно. Кажется, я наконец
увидел там княжну Долгорукову. Понимаю,
что она может нравиться.
Валуев[22] — из ДневникаИмператрица стала смотреть сквозь пальцы на любовные приключения своего царственного супруга. Особенно с тех пор, как врачи, пользовавшие её, самым деликатнейшим образом, более намёками, дали понять, что её величеству по причине пошатнувшегося здоровья, вызванного, в частности, частыми родами, следовало бы воздержаться от исполнения супружеских обязанностей.
Её величество Мария Александровна в самом деле чувствовала себя неважно. Странная слабость стала преследовать её день ото дня. Петербург и даже Царское Село с их промозглостью почти во все времена года казались ей губительными. И она стремилась как можно раньше отправиться в Крым, в полюбившуюся ей Ливадию. Супруг же под предлогом исполнения высочайших обязанностей норовил задержаться в Царском Селе.
Высочайшие обязанности, разумеется, были. Не столь обременительные, как представлял супруге Александр, но полностью уклониться от них было нельзя. Бремя государственных забот, основное и главное, лежало на кабинете министров и Государственном совете. Император выслушивал доклады и ставил резолюции — красным или синим карандашом, а порою и чернилами.
А свободное от посещений господ министров время он препровождал в прогулках по царскосельским аллеям и в альковных развлечениях.
Свои связи Александр именовал развлечениями. Женщины были созданы для его развлечений. Он, император, вершина всероссийской пирамиды, самодержец, повелитель миллионов покорных подданных, волен был владеть приглянувшейся ему женщиной, кем бы она ни была и какими бы узами не была связана. Он был Мужчина — с большой буквы. И мужское естество в нём никогда не угасало. Грех ли это? Царский духовник, принимавший от Александра род исповеди, без обиняков сказал его величеству, что он волен во всём, ибо есть помазанник Божий, и что любая дама обязана почитать себя осчастливленной, ежели его величество соблаговолит войти с нею в близость.
И он входил, входил, входил. И не мог насытиться. Генерал-адъютанту Александру Михайловичу Рылееву, поверенному его альковных похождений, он говорил:
— Ищу мою женщину. Ищу и не нахожу. Все они почти совершенно одинаковы. Знаешь, я иногда думаю: нет такой женщины, которая оказалась бы мне по мерке.
Рылеев понимал. Он возглавлял личную охрану императора и пользовался полным его доверием за преданность, верность и уменье держать язык за зубами.
Поиски продолжались. С годами они несколько поумерились. Во дворце почти не осталось придворных дам, заслуживших высочайшее внимание. Тем паче, что все, на ком его величество останавливал свой взгляд, отдавались ему без усилий и ломанья, с первого же раза.
«Ах, Боже мой, — иногда думал Александр, — как всё же это скучно. Хоть бы сопротивлялись, что ли. Хоть бы затеяли игру в догонялки...»
Он вспомнил, как однажды, ещё будучи подростком, в царскосельском парке во время игр, казавшихся невинными, в которые замешались девочки, он погнался за дочкой сановника. Она была пригожа и он давно приглядывался к ней, испытывая смутные желания, воздымавшие плоть.
И вот теперь она вошла в игру, и он погнался за ней, решив во что бы ни стало догнать и поцеловать. Казалось, ещё усилие, и она затрепещет в его объятиях. Но девочка с уже сформировавшимися формами, что более всего волновало его, сумела в последний момент ускользнуть от него. Возбуждение Александра достигло крайнего предела. Догнать, повалить в траву, впиться губами и...
Он задыхался — не от бега, а от возбуждения, от острого желания, уже теснившего его лёгкие панталоны. Оно, это желание, норовило вырваться из них...
Наконец он настиг её возле беседки. Он набросился на неё как зверь. Она упиралась — притворно, как ему показалось. Он тащил её в беседку, она покорно шла за ним, похоже, уже зная, что должно было случиться.