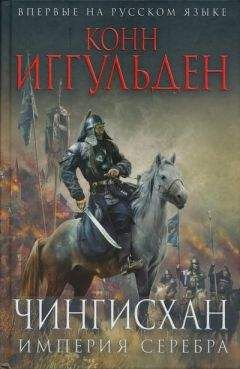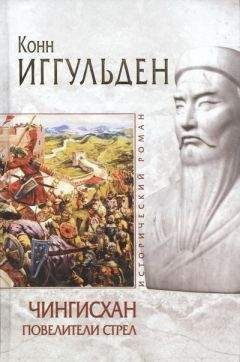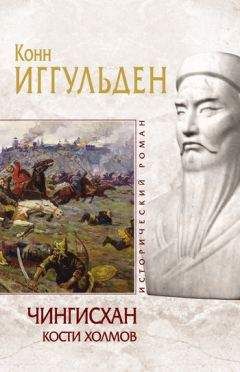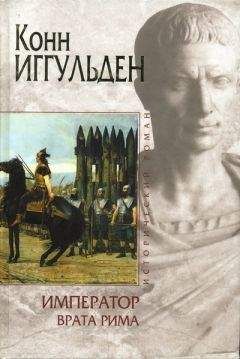Ольга Приходченко - Одесситки
— Изя, не пойдет, не пойдет.
— А шо пойдет? На каждой строчке — да здравствует мировая революция?
— Иссак Львович, мне просто не нравится это, — сердился редактор и брезгливо бросал листочки с Изькиной статьей на стол.
— Ну и набалованный же вы, як та Галя, — не унимался Изька.
— Какая еще Галя? — чувствовалось, что редактор получает удовольствие от разговора. Никто не мог так смачно рассказывать анекдоты, как этот маленький, юркий и талантливый одессит.
— Так вы не знаете, так слушайте. Разводится Галя с Федей, судья пытает: в чем причина? Галя смущенно кажэ, шо в него дюже малэнький... Ну свекруха не выдержала и стащила штаны с сына. «Ого!» — изумился судья. Так я и кажу, не унималась обиженная свекровь, обращаясь к родителям Гали: «Набалована дюже ваша Галя».
Редактор смеялся, понимая, в чей огород камушек, подмахивал материал и отдавал в печать. Знать бы ему тогда про Изьку-хохмоча — любимца партизан в одесских подземельях. Попался он случайно на облаве, когда по памяти искал лаз из замурованных немцами катакомб. Нашел все-таки в Отраде, но угодил в засаду
— Обед, девочки, обед, поднимайтесь, чего залежались, — басовитый голос няньки вывел ее из воспоминаний. — Все в столовку, открываю окно.
В палату ворвался свежий воздух, Надьке показалось, что запахло морем. Сегодня на обходе доктор ее порадовал скорой выпиской. «Первым делом обязательно съезжу на девятую Фонтана, — подумала она про себя, — счастлива ведь я там была, мужчины обсыпали комплиментами, загоревшая, в хорошем теле, как тогда говорили». Серые ее глаза на море становились то голубыми, то зелеными. С Женькой, редакционной подружкой, они постриглись коротко, из тельняшек сами сшили купальники. В тот день они валялись на песочке, и вдруг появился Бабель. Его разом облепили, как мухи, не давали раздеться, осыпали вопросами, пытаясь втянуть в спор. Надежде со стороны казалось, что никакой это не известный писатель, а простой одесский еврей, которого перепутали с писателем. Женька тоже рванула к нему, а Надежда продолжала лежать — ну что идти глазеть на человека, он и так чувствует себя неуютно, застенчиво. Бабелю не дали даже окунуться, он с трудом вырвался из толпы, развернулся и в окружении этих сумасшедших, чокнутых мальчишек пошел прочь, устало карабкаясь вверх по склону. Лишь взгляд его оставался озорным, насмешливым.
Надежда не заметила, как антрепренер Дусик Млинарис неожиданно, пользуясь случаем, что она одна, без Эдика, притерся к ней сбоку. Он называл ее второй Верой Холодной. «Да той, Наденька, делать рядом с вами нечего, ступайте в театр, я вас пристрою, с такой красотой самое оно. Ну все при вас», — убеждал он, а сам, маленький такой, всегда старался прижаться, поцеловать, пощупать за локоток. Кличку Дусик носил — ходячий анекдот. Надежда, чтобы запомнить и пересказать потом, записывала их. «Доктор, как ваша язва? — Уехала к своей маме».
На даче мужчины все чаще спорили о событиях, связанных с революцией. Особенно Илья, тот знал всю подноготную Мишки-Япончика и Гришки Котовского. Он работал некогда в «Одесских новостях» и подпольном «Одесском коммунисте». Свою речь Илья всегда начинал со слов: «Ну, ты мне скажешь еще...», хотя никто ему ничего не говорил, даже не собирался, кто бы спорил с этой ходячей энциклопедией истории революции Одессы.
— Да что вы знаете! — восклицал Илья. — В семнадцатом вся Одесса носила «атамана ада» на руках. В оперном Котовский лично продал на аукционе свои революционные кандалы. Ножные приобрел какой-то богач и передал в дар музею театра, а ручные висели в кафе «Фанкони» для рекламы.
Сам Илья всегда отличался от остальных ребят, носил галифе, хромовые сапоги и кожанку. Женьке он очень нравился, поскольку он был элегантен, как рояль. Илья воспевал революционную деятельность Котовского в своих статьях, а Надьку черт дернул ляпнуть, что он был обыкновенным вором и бандитом. Вспомнила Надька, как подвыпившая Розка возмущалась, что это они революцию сделали, по тюрьмам и каторгам сидели, а эти негодяи пристроились, когда выгодно стало. Как вылетело, Надька сама понять не успела. Столько раз Эдик ее предупреждал не молоть лишнего, не привораживать этого типа — и на тебе. Изька Кукиш тогда сразу схватил мешок и ушел на охоту. Охотился он за обглоданными кукурузными кочанами, валявшимися вдоль берега моря, для своего крестника Ваньки. Брел но берегу почти до порта и обратно. В расщелинах обрыва у него имелись свои хавиры, куда он за неделю припрятывал ценные угощения. Уставший и довольный, высыпал перед поросенком содержимое мешка и сидел, поджав ноги, уставившись на Ваньку своими глазищами. Надежда, глядя в такие минуты на Изьку, всегда думала: такие глаза, наверное, были у Иисуса.
Заколоть Ваньку ни у кого не поднималась рука. Гости все реже приезжали на дачу, Эдик только приветы от них передавал. Обеспечить питание сыночку полностью легло на Надины плечи. Утром в любую погоду, взяв под мышку два мешка, она отправлялась в сторону Бугаевки. Набив полные мешки ботвы от свеклы, помидоров, мокрая, грязная, уставшая, она плелась, проклиная себя, поросенка, Изьку с его подарком. В темноте она не сразу заметила, что кабана нет, он обычно ее встречал у калитки, хрюкая. Но сейчас было тихо. «Куда девался этот оглоед?» — подумала она. Хоть и жутковато было, но Надя продолжала искать, на других участках, однако поросенка нигде не было. Украли Ваньку, может, к лучшему, так никому и не пришлось брать грех на душу.
На ноябрьские праздники целой компанией поехали в город Бирзула возложить венок и поклониться памяти Котовского. Интересно было взглянуть на мавзолей, куда установили цинковый гроб со стеклянным окошком, через него можно разглядеть лицо лихого командира. Надежда хоть и оделась потеплее, в старенькую беличью шубку все равно зябла. В материнской шубке живот был незаметен. Илья рассыпался в комплиментах и не отходил от нее. Эдик психанул и, ничего никому не сказав, уехал один. Надежда тоже обиделась, кроме того, прогулка не пошла ей на пользу, она все-таки простудилась и слегла. А Лисовский не появлялся целую неделю. Она лежала в своей неотапливаемой комнате под двумя одеялами и шубкой. Опять был холод и голод. Татьяна, ухаживая за ней, проклинала мужиков: «И где ты этих задрипанных находишь?» Надежда не спорила, так Татьяна высказывала «свою обиду за нее». Потом были тяжелые роды и мертвый мальчик. Даже Татьяна не возражала, когда Эдик перевез ее в этот «Ноев ковчег». Здесь жизнь была такой же, как на даче. В громадной квартире на втором этаже собралась община непризнанных поэтов, журналистов и художников. Эдика комната была большой с окнами на немощеную улицу в двух кварталах от конечной остановки. Вид из окон был на маленькие домики с соломенными крышами, какие-то садики, огородики, а к горизонту сплошная степь. Холод и голод компенсировались общением. Сюда, правда, меньше приезжало знаменитостей, не то, что летом на дачу.
Эдик много ездил по командировкам, и Надька, чтобы хоть немного заработать, устроилась на топливный склад через дорогу. Фактически она сама кормила и одевала их обоих. Иногда ездили к морю компанией, но чаще Эдик ездил один, привозил свежей рыбки, от него пахло морем, кожа была теплой и соленой. Ее он в шутку называл — «моя керосинка». Как бы Надька ни мылась, все равно попахивало, правда, она этого сама не замечала.
Это было в лето перед войной. Эдик взял ее с собой в командировку, и они плыли по Дунаю на барже. Мир тесен, женой капитана оказалась сестра Розки Поля, вторично вышедшая замуж. У нее от этого брака родились еще сын и дочь, а старшая, Анька, сделала ее бабушкой.
— Костик, ну что ты, как босяк, штаны подтяни, вон сопли развесил, не стыдно?
Толстый загорелый мальчик, смущенно улыбаясь, поплелся умываться.
— Это Розкин младший, Константин, — Поля ласково посмотрела ему вслед. — А Борька, старший, уже женился и сам папаша. Спасибо, хоть в мамашу свою не пошли.
Она покосилась в сторону мужа.
На третий день войны Эдика мобилизовали. Всю ночь Надежда проплакала на его груди. «Надюшенька, ничего со мной не случится, — поглаживая жену по гладким волосам, шептал Эдик. — Я ведь буду в газете служить, военным корреспондентом, ты лучше себя береги, при бомбежках сразу в подвал. Через месяц война закончится, я тебе обещаю, помяни мое слово».
Война закончилась лишь через четыре долгих года, а он так и не вернулся. Она писала, разыскивала его, все напрасно. Только через два года Женька призналась ей, что Лисовский жив и был в Одессе, а с нее, Женьки, взял слово ничего Надежде не говорить, пусть лучше думает, что погиб на фронте.
Дверь в палату открылась, и возмущенная нянька заорала:
— Павловская, ты что здесь прописалась навечно? А ну на выход, тебя уже там заждались. Смотри, даже солнце вышло.
И действительно, палата вся засияла от солнечных лучей, пробившихся сквозь запыленное окно. «Иди, иди, у тебя же сегодня день рождения, — нянька протянула ей кусочек мыла, — бери от меня».