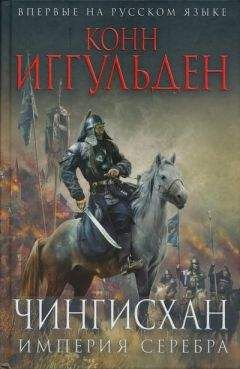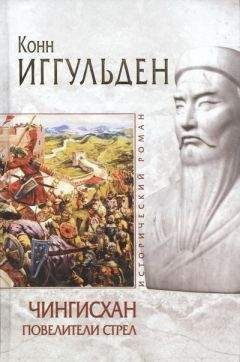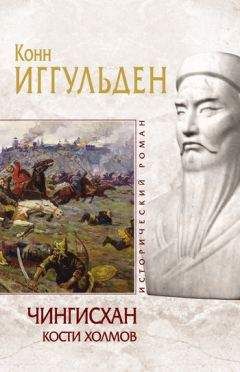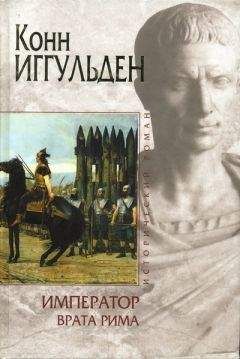Ольга Приходченко - Одесситки
Теперь она подрабатывала в пекарне, считала деньги, напечатанные на огромных листах. Их требовалось свернуть в рулоны по номиналу. Хуже было с уже нарезанными деньгами, те приходилось пересчитывать и складывать в мешки от муки. В выходной она брала Людочку, и они шли к морю. Город весной, как невеста, наряжался цветущей акацией с ее одурманивающим запахом, светило солнце, люди, несмотря на голод, смеялись, веселились. Продавцы газет на каждом углу звонко кричали: «Морак» вместо «Моряк». Ее брала тоска, хорошо бы снова вернуться в редакцию, к этим замечательным людям, однако сдерживала мысль, что придется доносить на них и неизвестно, чем это для всех кончится. Нет, спокойнее тихонько сидеть в частной пекарне.
— Наденька, здравствуйте. Мне это снится, я сплю? — Надежда вздрогнула, перед ней стоял молодой высокий юноша, сотрудник газеты Фима Шехтман. — Давайте пойдем на бульвар Фельдмана, зайдем в редакцию, вам все будут рады, вот увидите.
— Фима, не говорите никому обо мне. Обещаете?
— Как скажете, Надя, — лицо его побледнело.
— Я когда-нибудь вам объясню, хорошо? До свидания.
Надежда схватила Людочку за ручку, и они бегом помчались, стуча деревяшками по мостовой.
Фимка, конечно, не сдержал слово. Адрес ее он знал еще с похорон матери и установил слежку. «Что она скрывает?» — для себя он решил, что, по всей видимости, она из бывших, поэтому и боится, сейчас им нелегко. Парень не удержался и поделился с другом Эдиком Лисовским. Теперь они вдвоем наблюдали за странной девушкой. Однажды вечером, когда Надя возвращалась из пекарни, Фимка подошел к девушке и признался ей в любви и дружбе. Так они и пришли к ней в комнату, расписались на следующий день, и Надька стала мадам Шехтман. Свекровь не приняла русскую невестку, она подобрала сыну в жены дочь своей подруги, а он вот женился на этой. Для нее это стало трагедией. Фимка оказался самым настоящим маменькиным сынком. Стоило между молодыми случиться размолвке или небольшой ссоре, как он мигом убегал к матери. Денег заработать не умел, никто не оценивал его таланта, страдал, сам мучился и ее мучил. Через год у них родилась девочка Ноночка. Прожила она недолго, и ее смерть их окончательно развела. Фимку пригласили в киевскую газету. Надежда строила планы скорее уехать из Одессы, укатить хоть на край света из этой проклятой комнаты, от этой кровати, в которой умерли ее мать и Ноночка, но Фимка сбежал в Киев, как вор, один.
Она вновь стала Павловской, однако в Одессе оставался Эдик Лисовский. Он был моложе, зажили вместе, так, не расписываясь. Татьяна Фимку со света сживала, а уж Эдика, молокососа, вообще на дух не переносила. Надежда с Эдиком на лето сняли дачу на девятой станции Большого Фонтана и уехали туда трамваем. Дачей называйся полуразрушенный домик с верандой. На ней и жили, внутрь заходить опасались, дом мог рухнуть от любого ветра. Эдик ловил рыбу, ее готовили на листе железа, сорванного с крыши. Писательство Эдику давалось легко, он печатался почти в каждом номере газеты. Надежда всю жизнь считала это лето подарком судьбы.
Эдик любил подниматься с рассветом и делать обход по местным садам. Дачи в большинстве своем были заколочены, хозяева куда-то подевались, городское ворье появлялось только с первыми трамваями. Надежду будил запах спелых черешен, да таких больших, красивых. Она любила совсем черные, он всегда выбирал для нее самые спелые, крупные и подносил к самому лицу: «Мадам Шехтман, просыпайтесь. Вставай, соня, вставай, пошли, труба зовет». Они тихонько уходили, стараясь не разбудить вечных гостей, и медленно шли к морю. Муж тащил бамбуковые удочки и деревянный чемоданчик. Чего только в нем не было. Надя брала из дома плетеную сумку со снедью и фруктами.
Они спускались по почти отвесной протоптанной пыльной тропинке. Еще с обрыва, издали, видели весело искрящееся море, оно как бы приглашало: «Скорее, идите сюда скорей!» Они поддавались этому зову и начинали бежать к нему навстречу. Плавали нагишом, прячась за скалы, рыбаков на берегу уже не было, их лодочки в утренней пелене с трудом различались далеко на горизонте. Там, за этими скалами, они любили друг друга, мокрые, соленые, счастливые, свободные. Потом грелись на солнышке, отдавая свое тело голубому небу с легкими белыми облачками, спешащими по своим неотложным делам. Иногда небольшая тучка закрывала солнце, сразу чувствовалась прохлада. Надька открывала глаза и смотрела на нее, про себя думая: ну, когда ты уже уплывешь, не понимаешь, что мне холодно? И тучка, будто бы услышав ее, подтягивала свое тельце и исчезала. Опять становилось тепло и приятно.
Эдик оставался половить рыбку, пописать свои байки, писал он быстро, не то что Фимка — кишкомот, как обзывала его Татьяна. А Надька возвращалась на дачу, поднималась вверх, хватаясь за кусты дрока. Тяжело. Она опять была беременна.
Гости заглядывали к ним часто, они почему-то задерживались то на день, то на два, а то и целую неделю гуляли. На день рождения Эдика Изька Кукиш на закуску притащил поросенка. Свою кличку Изька получил за то, что в доказательство своей правоты имел в кармане веский аргумент — кукиш, ловко и быстро сворачивая пальцы на каждой руке, причем по две дули, и сопровождал все это словами в зависимости от собственного мнения: «Да он и двух кукишев не стоит, шоб я так жил» или «Та я бы не то что орден — и одной дули не дал за его боевой подвиг». Маленький, тщедушный, в чем только душа теплилась, зато знал все и про всех на Молдаванке, да и во всем городе.
Где Изька раздобыл поросенка, он молчал, просто вывалил из мешка, обгаженного и тощего. Его бросили в кучу отходов и, чтобы не было мух, присыпали травой. Угощений и без того хватало, в казане кипела уже третья уха. Все наелись досыта, даже жареные ставридки остались, и Эдик отнес их соседям. Поросенка забросали рыбными костями, решив, что он сдох, и утром закопаем. Утром Изька поленился пойти в туалет и пристроился помочиться на кучу. Стоял, балдея пол первыми лучами солнца, и вдруг куча зашевелилась, из нее выскочила здоровенная грязная крыса с хрюканьем. Кукиш остолбенел, это был оживший поросенок. Горка отходов таяла на глазах, вскоре от нее не осталось и следа. Поросенок носился но участку, пока не надыбал соседскую кучу, забрался в нее и успокоился. На вечернем совете решили откормить его, а через месяц, к какому-то юбилею, к какому она подзабыла, заколоть и зажарить.
Приемными родителями поросенку назначили бывшего именинника с мадам Шехтман. «Сыночка» назвали Ванькой, выписали даже ему метрику с печатями. В редакции составляли списки на получение дополнительных карточек семьям сотрудников. Изька в графе напротив фамилии Лисовский вписал: жена — мадам Шехтман, сын Ванька, и подсунул Райке, которая этими делами ведала. Она каллиграфическим почерком переписала, свела все в общий список и подписала у начальника. Через два дня она вручила карточки Эдьке, ткнув пальцем в ведомость, где тот должен расписаться. Вечно спешащий Лисовский подмахнул, положил карточки в карман и собрался уходить, но вдруг его что-то остановило. Злющая Райка прикрикнула на него: «Ну что еще? Это дополнительные, на твою жену мадам Шехтман и сына Ваньку». Если сказать, что присутствующие засмеялись, то это не сказать ничего. Вся редакция ходила ходуном. Да что редакция, все распространители ржали, как лошади. В Одессе только дай повод. Эдик злился, к нему теперь пристаю прозвище — муж мадам Шехтман, и его статьи называли не иначе, как: это статья того Лисовского, что муж мадам Шехтман, и кто-нибудь обязательно добавлял — и сыночка Ванечки.
Без Изьки Кукиша не обходилась ни одна гулянка, ни одна пьянка, но даже если он отсутствовал, то все равно его постоянно цитировали и рассказывали о нем всякие истории, порой самые неправдоподобные. Одна из них, которую все пересказывали по большому секрету, это арест Изьки чекистами. Быть бы ему расстрелянным, если бы уголовники за одну ночь не сотворили на «мощной» груди Изьки татуировку с портретом Ленина. Вроде вывели его ранним утром на расстрел, он разорван на себе рубаху и как заорет: «Ну давайте, в Ленина стреляйте!» Солдаты не посмели второй раз после Каплан стрелять даже в его изображение. Легенда это была или правда — кто теперь знает. Только во время войны на новом базаре немцы повесили Изьку, обнаженного по пояс, с табличкой «Партизан», и на груди его была татуировка — портрет Ленина. «Кукиш, кукиш, — Надька запела любимую песню Изьки: «Рули, рули, на тебе четыре дули». Он всегда это напевал, когда редактор читал его материал, не глядя на Изьку, улыбаясь, говорил: «Изя, прекрати свою музыку, эта утка еще в прошлом веке пролетала над Парижем. Вынь руки из кармана, не пройдет». На что Изька продолжал канючить: «Ну, так то каченя парижские буржуи давно зъилы, а до нас тилькы «Буревестники» долетают». — «Ой, Изя, доиграешься ты своими хохмачками». — И здесь же редактор закрывал дверь: не дай Бог, кто-то услышит этого провокатора.