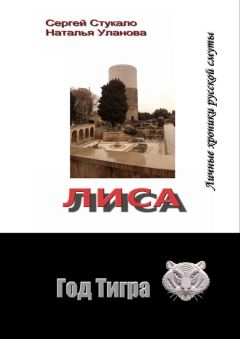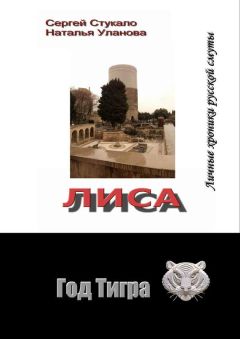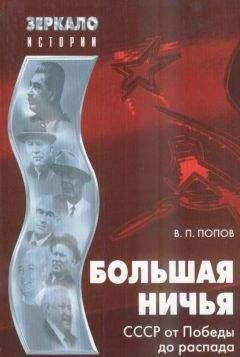Михаил Попов - Ломоносов: поступь Титана
За минувший год и он добился кое-чего. В гимназии шестьдесят душ — здесь дети не токмо дворянской крови, но и духовного сана, из купечества и даже из посадских низов. «На военной службе числятся и дворяне, и недворяне, так нечего стыдиться этого и при обучении наукам», — заключил он в своем «Проекте регламента Академической гимназии» и сумел убедить в том Разумовского, ссылаясь на свой пример и намекая на его, Кирилы Григорьевича, пастушескую юность.
— Среди оных, кто показывает прилежание, и помянутый Минаев, — добавляет Котельников. Михайла Васильевич кивает. Сей бледный отрок — из посадской голытьбы. В семье — семеро по лавкам. Мало того, что не на что справить одежку — впроголодь перебиваются. А гимназист Минаев, дабы подкормить брателок да сестриц, утаивает казенный хлеб.
Михайла Васильевич хмурится — деньги, на все потребны деньги. А где их взять? Власть над Гимназией и Университетом по титлу у него, профессора Ломоносова. А на деле — в руках канцелярии, поскольку именно канцелярия распоряжается бюджетом и обязана оплачивать все нужды и потребности.
Прежде академической канцелярией много лет заправлял Шумахер, плут и интриган, по сути тайный враг росской науки. Как ждали Михайла Васильевич и его сподвижники, что уйдет рано или поздно сей немчин со своего поприща — чай, не ворон же он, какой триста лет теребит падаль. Наконец свершилось. Шумахер, ослабнув здоровьем, подал в отставку. Русские академические мужи возликовали: ну, теперь-то все изменится, пойдет на лад. Но не тут-то было. Рано радовались. На месте старого ворона осталась его тень — зятек и выученик Иоганн Тауберт. И все в Академии, в том числе канцелярия, сохранилось в руках немецкой партии.
— Намедни был в канцелярии, — не дослушав Котельникова, хмуро цедит Ломоносов. — Говорю, деньги-де нужны. Как без казенного кошта содержать Гимназию да Университет? А Тауберт, ведаешь, как ответил? — корить начал. Достойно ли, дескать, говорить о дровах да солонине, о сих пустяках, коли держава ведет военную кампанию? Когда-де армии потребно пороховое зелье да амуниция…
Тут Ломоносов вытягивает дудочкой губы, косит к переносице глаза, отчего Котельников прыскает— много ли надо, чтобы представить облик Тауберта, а Михайла Васильевич еще и голосом того рисует:
— «Егта наша топлесна армия, не щатя шивота своеко, пролифает кроф на полях Марсофых…»
Маска тут же исчезает с лица, и Ломоносов предстает в обычном виде:
— Ах ты, думаю, чума ты немецкая! Чью кровь ты в уме держишь, немчин хренов — русскую или прусскую? Однако вслух не говорю — помалкиваю. Научился уже язык держать. Оне, суки, научили. Их же там цельна свора. Что скажешь — враз перелают и доложат. И останусь я в дураках, хоть и без колпака. Оне — патриоты, а меня врагом Отечества выставят.
Михайла Васильевич со стоном мотает головой:
— Ах, Иогашка, тать ползучий! Все переведал от Шумахера, все похмычки и выверты перенял! — И тут же без перехода поворачивает на то, что болит уже не по одну годину: — Будь она неладна, сия война! Конца-краю ей нету! Сколь крови выпила из народа! А проку?!
Тут Ломоносов тяжело подымается и велит вести в классы. Котельников поспешно отворяет двери. Они идут по сумрачному коридору, минуя рекреации, и входят в аудиторию. Гимназисты при виде Ломоносова вскакивают с мест, приветствуя великого мужа. И учитель — это тоже недавний выпускник Университета Глебов, ныне адъюнкт, также вытягивается в струнку. Михайла Васильевич кивает, жестом велит продолжать урок, а сам с Котельниковым идет на задний ряд, где пустуют две долгие скамьи.
На гвозде возле аспидной доски висит карта Европы. Идет урок истории. Да не далекой — римской али греческой — досюльной. Тема — прусская кампания, та самая война, что так затянулась.
На доске набросана схема театра военных действий. В середине Прусские области, где мечется окруженный король Фридрих II. Вокруг армии союзных держав: Австрии, Испании, России, Саксонии, Швеции и Франции.
Учитель ходит от карты к схеме, как солдат на плацу, потирая руки. В классе зябко. Нахохлившиеся гимназисты ежатся и передергивают худенькими плечами.
— Таково Марсово поле на минувший тысяча семьсот пятьдесят девятый год, — поводит рукой учитель и грифелем вытягивает жирную стрелку. — Сие армия генерал-фельдмаршала Петра Семеновича Салтыкова, полководца нашего. Тут корпус графа Чернышева Захария Григорьевича. Здесь корпус графа Фермора Виллима Виллимовича. Сей славный муж аглицкого роду-племени, а начал служить еще при государе Петре Алексеевиче.
Учитель делает паузу и против стрелы чертит квадрат:
— Супротив росских сил стоит принц Гейнрих, брат прусского короля, с нарочитым корпусом. Вот здесь. — Учитель тычет в квадрат, и грифель от давления крошится.
Учитель долго объясняет перемещение союзных армий, марши войск прусского короля, называет имена полководцев и наконец подводит свой рассказ к победе русских войск при Куннерсдорфе. И тут, обратив свои глаза в сторону Михайлы Васильевича, он наизусть читает строки из его последней оды.
Богини нашей важность слова
К бессмертной славе совершить
Стремится Сердце Салтыкова,
Дабы коварну мочь сломить.
Ни Польские леса глубоки,
Ни горы Шлонские высоки
В защиту не стоят врагам;
Напрасно путь нам возбраняют:
Российски стопы досягают
Чрез трупы к Франкфуртским стенам.
Гордый росской славой, учитель отдает честь отважным орлам Отечества, а одновременно — дань уважения державному Пииту, автору одических строк. Однако Михайлу Васильевича это почему-то не радует. Он хмурится, отводит глаза, но лицо выдает его, и, дабы не сорваться во гневе да не навредить авторитету учителя, он встает и, кивнув вставшим во фрунт гимназистам, выходит наружу.
— Что-то не так, Михайла Васильевич? — озабоченно осведомляется инспектор, когда они возвращаются в канцелярию.
Ломоносов пожимает плечами.
— Да будто так, — отвечает он медленно, — а будто не так. — Кресло под ним скрипит. — Ода-то моя год назад писана. Я чаял, после Куннерсдорфской виктории конец настанет кампании. Аль забыли?
— Никак нет, Михайла Васильевич! — пылко возражает Котельников и, как по писаному, начинает читать концовку оды:
С верьхов цветущего Парнаса
Смотря на рвение сердец,
Мы ждем желаемого гласа:
«Еще победа, и конец,
Конец губительным брани».
— Во, — маленько просветлев лицом, отзывается Ломоносов. — «Конец губительныя брани». А где же он, конец сей?!
Котельников на это молча кивает — что тут скажешь? А потом, кажется, неожиданно даже для самого себя тихо роняет, что у Минаева, отрока давешнего, брат под Берлином пал.
Ломоносов поднимает голову, невидяще щурит на него глаза, трет лоб, сдвигая при этом парик, и медленно, раздумчиво, не то припоминая, не то заклиная кого-то, читает:
Воззри на плач осиротевших,
Воззри на слезы престаревших.
Воззри на кровь рабов Твоих…
Это последняя строфа той же оды. Но заключительные строки ее Ломоносов читает, потупив глаза в пол, явно нехотя и скороговоркой:
К Тебе, любовь и радость света,
В сей день зовет Елисавета:
«Низвергни брань с концев земных».
Котельников глядит на учителя выжидающе: отчего у Михайлы Васильевича такая перемена? Однако спросить не смеет. Ломоносов сам отвечает на его немой вопрос:
— Не может матушка укротить супостата. Не дают ей. — И, подняв тяжелую голову, глядя прямо в глаза ученика, жестко добавляет: — И не дадут.
— Кто? — затаенно выдыхает Котельников.
— Кто? — переспрашивает раздумчиво Ломоносов, словно что-то взвешивая. — А вот послушай-ка. — Он извлекает из-за обшлага кафтана какие-то бумаги. — Письмо оттуль… Третьего дня получил…
Ломоносов разворачивает листы. Бумага рыхлая, незнакомая, явно чужой выделки. Он перебирает листы и где-то на втором развороте находит глазами нужные строки.
— Аха, вот! — и начинает читать: — «У нас, в течение сего лета… прославился бывший совсем до того неизвестным немчин, генерал-майор граф Тотлебен, командовавший тогда всеми легкими войсками и приобретший в короткое время от них и от всей армии себе любовь всеобщую. Все были о храбрости, расторопности и счастии его так удостоверены, что надеялись на него, как на ангела, сосланного с небес для хранения и защищения армии нашей. Как сему немчину случилось не только бывать, но и долгое время до того живать в Берлине, и ему как положение города сего, так и все обстоятельства в нем были коротко известны, то поручено было ему в сей экспедиции передовое из трех тысяч человек состоящее войско, с которым он и отправлен был вперед».