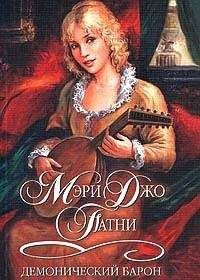Франтишек Кубка - Улыбка и слезы Палечка
— Кто это? — в изумлении промолвил Винченцо.
Стая птиц взвилась в вышину и опустилась напротив, на свинцовую крышу ратуши.
— Это мессер Джованни из Праги! — защебетала Лючетта.
— Джованни, Джованни! — заревел Винченцо. — Теперь, значит, уж не Джулио, а Джованни!
— К вашим услугам, синьор Винченцо! — промолвил Палечек. — Я — Джованни. И должен вам сказать, что еще ни разу на свете не видел такой добродетельной жены, как госпожа Лючетта. Я взобрался сюда на балкон, два часа стоял перед ней на коленях, три часа играл он на лютне, но она так и не выслушала меня, не наградила ни единым поцелуем мое терпение и мою страстную музыку. И когда она пошла спать, я остался на балконе и продолжал играть, чтоб хоть навеять ей приятные сны!
Однако Винченцо обнажил меч и бросился на безоружного Палечка. Тут вдали из моря вышло солнце и показало земле свое омытое лицо. В зале стало совсем светло. Но Винченцо на восход солнца не обратил никакого внимания. Он кинулся на Палечка, и острие его меча уже приближалось к груди моего храброго друга. Лючетта только крикнула: «Ах!» — и упала без чувств.
Уж не знаю, как и что, только в это мгновение мой Палечек улыбнулся синьору Винченцо, Улыбнулся своему разъяренному преследователю одной из тех улыбок, которые все так любят. Винченцо опустил руку и, будто околдованный, тоже улыбнулся.
— Сударь, — промолвил Палечек, — так как вы, я вижу, мне не доверяете, я завтра покину Падую и итальянскую землю, чтобы не пострадала добрая слава вашей супруги. Всего доброго!
И мой волшебник ушел.
Чего не мог добиться магистр Конти, что не удалось монаху Джордано, чего не в состоянии была сделать падуанская тюрьма, то сумела женщина. Мой Палечек ушел от меня, а вместе с ним — частица моей молодости!
Простился он со мной очень нежно. Подарил мне на память перстень с жемчужиной. Сказал, что эта жемчужина должна напоминать мне слезы, которые он проливает по поводу своего отъезда из прекрасной итальянской земли и расставания со мной. Он получил ее в свое время от епископа трентского. Сказал, что многому научился. Но не столько в Академии, сколько благодаря итальянскому солнцу, итальянскому вину и самим итальянцам. Говорил, что чувствовал себя наполовину итальянцем уже во время приезда. Но что здесь, в нашей стране, стал более сдержанным. Удивительное дело! В общении с нами приобрел солидность… Может, еще и потому, что из юноши превратился в мужчину. Ведь когда к нам приехал, так был еще ребенком. А теперь вот уезжает. Какая судьба ждет его в той загадочной стране на севере, о которой наш славный епископ сиенский Эней Сильвий[90] передает нам в своих тайных сообщениях такие непонятные вещи? Жаль, что я так стар. Я поехал бы с ним и его слугой Матеем, который дома будет, наверное, так же ворчать, как ворчал у нас. Мы с ним спорили бы по поводу толкования Священного писания.
А хотите знать, что произошло потом в доме синьора Винченцо? Джулио вылез из сундука только вечером этого печального дня, после того как синьор Винченцо опять пошел на заседание совета. Но Лючетта больше знать его не хотела. Она послала вдогонку Палечку гонца с письмом, в котором просила своего Джанино, свою ненаглядную золотую рыбку, ради бога простить ее; писала, что она всегда любила его, любила его прекрасные глаза, милую улыбку его и что после него больше никогда не полюбит никого на свете — во веки веков аминь!
Но Пульчетто ничего не ответил и спокойно продолжал свой путь — на Удинэ и к альпийским предгорьям.
Объясните мне, отчего на свете так мало людей, подобных Палечку? Горячие сердца их согревали бы нас сильней весеннего солнца, чьи лучи озаряют сад, где под пенье зябликов, что сидели на туфлях у Палечка, пишет это письмо преданный вам
Никколо».
XXIII
Ян и Матей перешли границу Чехии на землях пана Олдржиха из Рожмберка близ Крумлова. Ян не заплакал, услышав первую беседу крестьян на его родном языке, не упал на колени, как делали многие после долгого пребывания на чужбине, и не поцеловал родную землю. Его скорей охватила тревога при мысли о том, что у него впереди.
Из Италии он уехал неожиданно и без долгих размышлений. Даже со студентами своего факультета не попрощался, даже не прошелся еще разок под портиком Падуи и не вошел в храм ласкового святого, покровителя города. Только сжал руку старому канонику Никколо, еле сдерживая слезы. Он чувствовал, что простился со своей молодостью, с итальянским небом, с беспечными блужданиями по чужим местам и возвращается на родину, в государство, о котором целые годы знал только по слухам да по рассказам каноника Никколо, осведомленного обо всем, что делается на белом свете, от монахов-доминиканцев, главная задача которых — борьба с ересью.
Он возвращался в страну, откуда веяло страхом. Знал, что заправляет всем, совершающимся дома, тот самый Иржик, который в бою при Липанах стоял на стороне, разгромившей Прокопа Великого и желавшей найти путь к земскому миру. Он слышал об Иржике столько, что голова начала болеть. Всю дорогу, во всех крепостях, на каждом церковном дворе — Иржик! Для одних он был паршивой овцой, клятвопреступником, одержимым бесовской силой, подлым предводителем шаек, которые, куда ни придут, всюду жгут стога, угоняют скот, снимают колокола с колоколен, как было в Мейссене и Фойгтланде, причем эти шайки предпочитают открытому бою разбойничьи набеги и возвращаются домой с целыми возами красивых одежд, золота и серебра… А по словам других, нет на земле человека такого обаятельного, сдержанного и мудрого, как Иржик, — истинное украшение чешской земли и божий промысел, воплощенный в королевском могуществе. Он старается, чтобы королевство пользовалось благами мира, чтоб была обеспечена свобода дорог, воспрещены всякого рода мошенничества, прекращены налеты и грабежи, чтоб был положен предел поджогам и укрывательству корчемных и других воров. Он чудом пережил мор в Праге, хотя бесстрашно принял участие в похоронах развратной императрицы Барборы[91], которая, как известно, была единственной женщиной, не верившей в загробную жизнь. Он не только не бежал от мора, но во время него устраивал съезды. Все время вел переговоры со своими противниками и вступал с ними в сделки, лишь бы избавить королевство от военного разорения, а уж коли брался за оружие, так победа наверняка реяла над его знаменем, и горе неприятелю, который вовремя не покорился. Иржик унаследовал военное искусство гуситов, и потому его боялись не только страконицкие и рожмберкские, мейссенские и саксонские, но и сам немецкий король Фридрих[92], и даже папа.
Несказанно обрадовались Ян и Матей, очутившись в альпийских горах, где на каждой вершине — крепость, похожая на драконье гнездо, откуда алчные глаза глядят в долину. Всюду горы и всюду леса, и Ян опять увидел хвойные деревья. Почуял запах далекой родины! Но он не ускорил хода коня, и лицо его не прояснилось. Отчизна вставала перед ним из бесед с людьми. Для всех она была источником страха, очагом раздоров, почвой, питающей разногласия. Глубокий ров был выкопан между его страной и тем краем, откуда он возвращался. И ров этот был до краев полон крови. Между его народом и соседями не было примирения. Слишком продолжительной, слишком жестокой была война между теми, кто кичливо называл себя истинными сынами церкви, и его еретическим народом! Богатые говорили: «Кто хочет стать бедняком, пусть последует примеру чехов!» А бедные не отвечали, потому что бедным можно было говорить только в чешской земле. В Бриксенском епископстве Палечек услышал о земле своей самые мерзкие слова. Тамошний священник передавал отзыв одного легата о Чехии[93], высказавшегося в том смысле, что, дескать, он жил там будто среди варваров и людоедов либо отвратительных индейцев и африканцев, потому что поистине на всей земле нет более чудовищного народа. А Табор, город, откуда начался бой за правду божию, этот человек назвал сборищем негодяев, обителью сатаны, храмом Велиаловым и царством Люциферовым!
Эти и многие другие слова вонзались Палечку в самое сердце. Но он радовался тому, что вот какой страх внушает его страна всем этим трактирщикам, рыцарям, монахиням и священникам, которые сидят в безопасности здесь, высоко в горах, и все же боятся, как бы к ним из дальних просторов не донесся вдруг грохот приближающихся таборитских телег.
Вскоре он узнал, что такое представление о его народе поддерживается и распространяется человеком, по стопам которого он движется на север. Ему сообщили, что этим же путем в Чехию направляется с двенадцатью учениками, как спаситель, минорит Ян Капистран[94], папский посланец, могучий проповедник и чудотворец, убежденный, что начисто искоренит там ересь, сломит могущество антихристово и вернет заблудших овец в лоно церкви. Чего не мог сделать меч крестоносцев, то сделает огненное слово этого человека — верил папа.