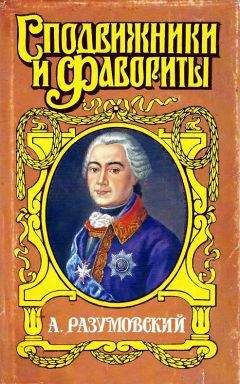Лев Жданов - Сгибла Польша!
— Никогда! Я больше не полюблю никого… никогда…
— Больше… Значит? — снова холодея, спросил Дельвиг.
— Да. Я уже сделала выбор… Вот тот же, что и она… И эта! — указывая на Жанну д'Арк, на Бобелину, — проговорила Эмилия. — Край родной, подавленный народ мой… Его свобода!.. Вот кто мне дороже жизни… Кому я поклялась в душе посвятить себя… до конца!
Молча, как зачарованный, глядел Дельвиг на девушку. Он давно ожидал и боялся этого. А она продолжала:
— Слушайте… Я должна сказать. Вы один поймете лучше всех… хотя вы и не наш!.. Те — чувствуют, как я… Но этого мало… Хочется, чтобы понял меня близкий по духу, дорогой мне человек… Именно такой, как вы, барон. Говорю прямо. Слушайте… Вам я так обязана… Вы научили меня мыслить строго, стройно… Помогли разобраться в том хаосе мыслей, чувств и стремлений, какие поднялись в моей душе при столкновении с родным, страдающим, подавленным народом… при знакомстве с историей Литвы, Белоруссии, Польши… Что надо делать — я чуяла сердцем, надо помочь своим! Как это сделать — этому научили вы, сами того не замечая; научили ваши уроки, эти стройные, строгие истины математики, ее непреложные законы соотношений и счета… Даже основы и тайны военного искусства, стратегические и тактические задачи, которых немало решали вы со мной… Теперь моя работа мне ясна… Честь и сердце не велят больше сносить угнетения. Разум и наука говорят, что есть надежда на удачу… Не так уж мал и бессилен наш народ, все племена, входящие в него, говорящие одним родственным говором, верующие в одну церковь святую католическую нашу… Не так уж нас мало, не так беззащитны наши родные углы: леса Литвы и Жмуди, пинские топи, холмы Волыни и раздолье приднепровское, чтобы не могли мы вернуть себе волю, если захотим… Правда, много уж лет, как мы покорены… Но тогда — совсем темный был народ… Разрозненные и слабые, одна за другой, подпали наши земли под власть Москвы… Крули-предатели, как Лещинский… Злоба соседей, разрывающих с трех сторон былую Речь Посполитую, — вот что привело к рабству нынешних дней. Помните, я вам читала как-то, барон…
Лежит дорога у Креста,
Три Орла разрывают ей тело
Без помех, неустанно и смело…
Грудь клюют, не жалея!
Российский — суров и тяжел…
Австрийский — хитер он и зол…
Прусский — всех беспощадней и злее!..
— Да, я помню… Сильный образ…
— Для меня — это не "образ" поэта, а боль души!.. Давно, еще девочкой, я думала: чем бы помочь моему родному народу?.. Этим темным холопам, тихим белорусам с их вечной тоской и красивыми заунывными песнями… Что-то звало меня… Бродя по залам нашего замка, где стены увешаны старым оружием, слушая сказки моей няни о королевичах, громящих злых чародеев… Заставляя потом моего дядьку, Мураша, воина из полков Костюшки, в сотый раз повторять мне о славных боях "косиньеров" с врагом… наконец, перечитывая исторические хроники, где отмечены былые подвиги моих предков, крестоносцев и витязей старопольских, — я уже предчувствовала, куда должна направляться моя дорога в жизни…
— Я догадываюсь… Я давно видел, ожидал, опасался этого… Неужели же вы решились?..
— Бесповоротно! Это случилось недавно, двух лет еще нет… Когда мама повезла меня в Краков, к родным. Хотите, я вам расскажу?.. Если не надоела еще…
— О, графиня!..
— Ну, хорошо… Я никому не говорила до сих пор… Когда Ликсна осталась позади… и мелькнули печальные поля славной когда-то Литвы, — завидя берег светлой Вислы, я громко крикнула: "Прощай, задавленная Литва!" Я дрожала от мысли, что увижу столько нового!. Край лехов, сарматов и вольных доныне людей краковской земли… И я увидала! Каждый уголок на пути для меня был полон особого очарования, оживлялся тысячью былых образов, тенями людей, кости которых уже истлели в их славных могилах!.. На Рачинском поле под Варшавой — мне живо, до обмана, представился бой, в котором сорок тысяч швабов отступили под натиском героя Понятовского с его бессмертной дружиной из восьми тысяч храбрецов… Я, полная восторга и трепета, проходила по зале Вольного Сейма в крулевском замке Варшавы… Былым величием и славой веяло мне с этих стен… Тронный зал, где беломраморные, вечные стоят они, двадцать три героя Речи Посполитой… Где яркая кисть вдохновенного Баччиарели изобразила на стенах самые светлые и великие моменты из родной нашей истории… Величавый кафедральный костел, в котором пели хвалу Господу после побед Жолкевского над Москвой, Ходкевича под Кирхгольмом, Собеского над австрийцами и турками… Потом — Диканьская каплица, где покоился прах плененного Шуйского — царя… Пулавы на Висле, этот Пантеон родной земли… Там я поклонилась костям Владислава Великого… праху Коперника… Видела саблю победителя, Владислава Короткого… Жезл Чарнецкого, реликвии Замойского, Стефана Батория, заржавелые ключи Вены, павшей к ногам Собеского!.. Там стоит простой трон Казимира Великого, этого святого "круля холопов", как он зовется… Я увидела всю былую Польшу… И сравнила ее… с настоящей!.. Жгучие слезы обиды и стыда стояли здесь, в груди… но не катились из сухих моих глаз!..
— Вы и сейчас волнуетесь… Успокойтесь, графиня!..
— Нет… это — хорошо!.. Это — ничего… Теперь я вспоминаю с удовольствием… А что было тогда!.. Я металась, буквально как отравленная мыслью, что сделать, чем помочь, чтобы воскресить хотя тень былого… И не находила… Разум подсказывал, что я бессильна. А те, кто в силах… Кто мог бы?.. Те все сносят и молчат. И вот приехала я в Вавель… Там поклонилась темным гробницам наших славных крулей… Наконец, мы в Кракове… Здесь только случайно я поняла, куда зовут меня невнятные голоса, что мне надо делать…
— Случайно, графиня?
— Почти… Ведь тот же Рок… Так учит "теория случайностей". Конечно, я нашла то, что искала… но помимо своей воли. В крулевском замке, на краковской Песковой горе увидела я странный портрет девушки, красивой, с темными огненными глазами и высокой грудью… Но грудь эта была одета в броню воина… Блестящий рыцарский шлем покрывал черные кудри, подстриженные, как у юноши. Вот здесь — снимок с портрета, — указала Эмилия на одну гравюру. "Кто это?" — спросила я старика сторожа, водившего нас по замку. "Княжна Ве-лепольская! — ответил он. — Долгое время воевала она против неверных с мужиками заодно. Случайно открыли ее пол. Пришлось вернуться под отцовский кров и даже поступить в монастырь. Ксендзы нашли, что великий грех свершила княжна, одевши мужское одеяние, живя среди воинов и своей женской рукой проливая кровь. Только в келье недолго прожила бедная девушка. Захирела и скоро померла!" Он кончил, мы пошли дальше… А образ гордой девушки в одежде воина, с черными огненными глазами стоял передо мной. И… я решила пойти по ее следам… По следам другой еще защитницы родного края… Девы из Орлеана…
— Сражаться… убивать… хотя бы и врагов… но — людей!
— Убивать?.. Нет. Я слишком для этого слаба духом… Не то теперь время, чтобы девушки и жены поражали мечом… Но… помогать, воодушевлять братьев-воинов… Направлять их мечи, их удары… Это я сумею… и смогу!.. Родине, делу ее свободы и счастья посвятила я себя. И… если бы даже… привязалась к мужчине… поняла, что люблю его так, как надо любить, чтобы… стать подругой до смерти, женою?! Все равно я бы не дала воли моему сердцу! Укрыла бы это чувство… до той поры, пока не исполню свой долг… увижу вольными собратьев или… умру. А уж тогда… целый мир… и любовь — все станет далеко от моей успокоенной души.
— Но… ведь он… не забудет… Он… не утешится до конца своих дней, графиня. Он… не переживет! — словно против воли вырвалось у Дельвига шепотом. Но этот шепот потряс его самого и словно обжег слух и душу девушки.
Переведя с трудом дыхание, она так же негромко, с бесконечной грустью и лаской проговорила:
— Переживет… утешится… забудет!.. Человеческая любовь? Она стихийна, вечна, это правда… Но направляется часто к различным целям… Только не к могилам! А я?.. Я даже не имею права любить, как любят все здесь на земле… здоровые, радостные. Вы знаете, моя мама умерла отчего?.. Тот же недуг, он и у меня в груди. Врачи давно сказали… Вот я ездила лечиться на море. Все пустое! Долго мне не жить… Так надо короткий остаток дней посвятить тем, кто так нуждается в малейшем участии, в сострадании, в помощи!.. Своих детей я иметь не смею… не буду! Пусть же темные, слабые, задавленные увидят во мне помощницу и мать! Пусть гибнущие на моих руках перейдут в лучший мир… Вести борцов… облегчать их страдания, врачевать раны — это мой удел… Я ждала, когда пробьет час… И вот осенью минувшего года колокола варшавских храмов, гудевшие в грозную ночь двадцать девятого ноября, и мне прозвучали: "Эмилия, пора!"
При этих словах она поднялась со стула и стояла прекрасная, вдохновенная, словно неземная…