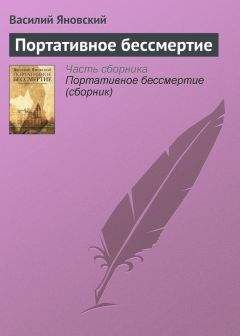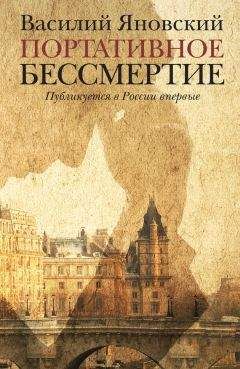Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Случилось так, что жена моя, которую я выпроводил из Парижа 10 июня 1940-го, через сутки попала в дом к Бердяеву (на юге); там ее не знали. После непродолжительной и вполне оправданной заминки ее впустили в дом и пристроили на несколько дней, пока она не переехала в Аркашон к Фондаминскому. В этом испытании было много соблазнов, но Бердяев из него вышел, как подобает мудрецу и учителю жизни.
Я читал в «Круге» свой «План Свифтсона», который потом печатался в «Новом граде»; Милюков, взявший «Портативное бессмертие» для «Русских записок», зачеркнул эту главу под тем предлогом, что он не разделяет высказываемых там суждений.
В этом моем плане всевозможных реформ говорилось, между прочим, что вождями наших ячеек надо избирать худших братьев, а не лучших: тогда не будет борьбы и ревности! То же относительно экуменической литургии: следует признать церковь послабее, менее удачную и принять ее ритуал. Фондаминский, веривший наивно в «элиту» (интеллигенцию), спешил выяснить именно этот поразивший его вопрос «до ухода Бердяева». Последний с улыбкой меня поддержал.
За Бердяевым стояла какая-то благодатная «подлинность»; купить этого «барина», разумеется, никому бы не пришло в голову. У Мережковского некое метафизическое продажное начало сразу бросалось в глаза.
Время оккупации Бердяев провел в героическом и почетном одиночестве. После победы, в которой русские «катюши» сыграли такую большую роль, «признание» Бердяевым сталинской империи было так же психологически неизбежно, как и визит Макчакова на рю Гренель.
В нью-йоркском журнале «Третий час» (Извольская, Манциарли, Лурье, Яновский) мы еще долго продолжали печатать на первом месте великодержавные статьи Бердяева, что возмущало Федотова. Теперь, конечно, понятно, что последний был прав. Мы посылали Бердяеву черную гречневую крупу, которую наш европейский философ бурбонских кровей прямо-таки обожал.
На панихиде по Бердяеву в кафедральном соборе ко мне подошел Федотов и с привизгом, с интеллигентским забеганием вперед, даже внешне неискренне прощая ему все, хотя Бердяев ни в чем не извинялся, восторженно заявил:
– Он умер, как солдат на посту, за письменным столом! Как солдат на посту!
Я ничего не ответил: было тяжело и стыдно. За всех и все. За Федотова с его «неосновательным» тоном или жестом; за себя и собственные беспомощные оценки. За покойника, пусть даже умершего «на посту»… Нас путала ужасная Россия, «патриотизм», родина. Что истинно в Париже, должно быть правильным в Кремле; свет для англичанина не может быть тенью для русского, и наоборот. «Наше отечество там, где наш Отец небесный». Когда десятилетие спустя кардинал Спеллман посетил Вьетнам и заявил там американским солдатикам: “Right or wrong, my Country…”» [73] – то нам всем хотелось зажать нос от густого запаха воскрешаемого язычества. Пусть права для себя лично Анна Ахматова, не желавшая, как кошка, оставить родной дом, но трижды права и святая эмиграция, в пророческом гневе стараясь отбросить, связать дорогого буйнопомешанного, надеть на него смирительную рубашку!
А Бердяев действительно ежедневно сидел на своем посту за рабочим столом. Всю жизнь он по утрам писал! После завтрака спал часа три – усадебным сном. Потом чай и опять возвращался к своему основному занятию. Мережковский тоже регулярно по утрам часа четыре строчил. Так в продолжение шестидесяти пяти лет. И Ремизов. Других развлечений у этих подвижников не было. Ни спорта, ни женщин, ни вина, ни карт.
Сколько можно написать фолиантов таким путем? И что это докажет? Трудоспособность человека? Дар? Или совершенную непригодность к другой действительности?..
Мне случалось присутствовать при встрече двух мудрецов и друзей: Бердяева и Шестова. Это было весьма трогательное зрелище: оба старца говорили друг другу «ты». Что-то мальчишеское проглядывало, когда они произносили такое необычное слово. Робко, целомудренно, неуверенно звучало это их, вероятно, последнее живое «ты».
– Почему ты не пошлешь в «Современные записки»? – заботливо осведомлялся Бердяев.
– Они уже раз меня напечатали, – объяснял, оправдывая журнал, Шестов.
Высокий, сухой, сутулый, в сюртуке, с козлиной седой бородкой, он походил на фельдшера из уезда, которому «старожилы» больше доверяют, чем врачу.
– А вы почему не пошлете в «Современные записки»? – любопытствовал я.
– Мне не надо, – снисходительно отвечал Бердяев. – Впрочем, я иногда им даю.
Бердяева охотно печатали иностранцы. Почему-то очень много в Южной Америке. Были у него поклонники и во Франции, и в Испании.
Расшалившись, старцы начинали шутить; Шестов рассказывал старинный анекдот, а Бердяев рассеянно и светло улыбался… Смутно помню нечто юмористическое про читателя. Кажется, Ремизов обращается к Шестову:
– Лев Исаакович, я вчера на Невском видел вашего читателя: он осторожно пересек проспект и остановился у витрины.
Что-то в этом роде, но гораздо смешнее.
Отсутствие читателя меня тогда еще не угнетало; предполагалось, что это временное, преходящее явление. Двести, триста человек покупали наши книги, приходили на собрания, участвовали косвенно в литературном хозяйстве. Казалось, что этого пока довольно. Главное, написать и обнародовать: бросить очередную рукопись в бутылке. А океан – время.
Георгий Иванов определял писателя как литератора, нашедшего своего издателя: без издателя ты, может быть, гений, но не профессиональный писатель!
Лишь потом, в других десятилетиях и полушариях, я понял: слово должно быть сказано и услышано (двумя или тремя), иначе оно не слово, а только звук. Вся фауна и даже флора издают звуки.
Наши читатели вымерли, увы, быстрее своих писателей; новые дипи не могли стать подлинными собеседниками. Они вернули эмиграцию к двадцатым годам, в провинцию, с ее обличительной литературой «наоборот»! Подавляющее большинство этих беглецов к религиозным вопросам равнодушно и лишено теологической интуиции. Недаром Белинский и Тургенев утверждали, что «русский мужик Бога слопает». А ведь как нам одно время внушали, что это народ-богоносец, православнейший христианин и бескорыстный подвижник… А в придачу еще великолепный бунтарь, взыскующий Правды или Истины (тут тонкое различие).
Оказалось, что русский мир – косная биологическая стихия, все принимающая в трезвом виде, мечтающая об индивидуальной телке и о полоске частного огорода. Если очень круто придется, то мы под пьяную руку разобьем чужую усадьбу, пианино загадим и заночуем в участке или в вытрезвителе.
А теологическая интуиция никому не нужна; народ, по-видимому, доволен своим социалистическим реализмом, и давно уже. Позволили бы ему только кормить поросенка под печью или в ящике письменного стола. Новый беженец, приезжая сюда, с радостью отправляется в церковь и разговляется поросенком с хреном. Но в старом русском и эмигрантском диалоге о Боге-Любви и Боге-Силе, о свободе и предопределении, о реальности очевидной или действительной, о несостоятельности энтропии и о воскресении во плоти… в этих несущественных спорах «ссыльнокаторжные» почти не участвуют.
Мистика враждебна, чужда не только комсомольцу, но и беспартийному. А понятия чести нет и не было! Тот гонор, над которым издевался Достоевский, описывая полячишек и французишек; да и Толстой не одобрял.
Без рыцарской чести и без теологической культуры обижаемый православный народ будто бы воспитал в себе чуткую «совесть», инстинктивно тяготея к справедливости и Правде… Но и это оказалось ложью в советской действительности.
В русской истории исключительную роль сыграла баба. Это она отгребалась от внутренних и внешних врагов, строила казармы и метро, кормила поросят в бане, копалась в огороде между двумя сверхурочными сменами, учила ребят мудрости Ленина и пытала «беляков» в пору гражданской войны. У бабы не бывает прогулов.
Вообще участие женщины в истории каждого народа – характерный признак. Удельный вес роли жены и мужа в разных культурах – иной! Здесь новое поле для исследователя.
Совершенно очевидно, что участие русской бабы в истории значительно превышает деятельность ее немецкой товарки. Ничего отдаленно похожего на Марфу Посадницу (и Зою Космодемьянскую) у фрицев нет. А Жанна д’Арк опять-таки стоит совершенно обособленно. За прусскую историю, какая бы она ни была, отвечает в первую очередь немецкий солдат. Баба ему помогала в том смысле, что, получив с Восточного фронта пеленки и сало, запачканные кровью, она с благодарностью пользовалась этим добром. Но, по-видимому, мечты Гретхен или Маргариты не исчерпывались этими приношениями, иначе они не сходились бы так охотно с унтерменшами.
Русская баба, самодовлеющая величина! Если бы кобели ее оставили в покое, она давно бы построила крепкое и практичное хозяйство-государство, отгребаясь от орд захватчиков не хуже прежнего. Без теологии, но с церковным пением, наливками, закусками, плясом и хоровыми играми: государство-хозяйство, прочное и образцовое. Русская баба имеет в себе элементы гермафродитизма, чего такие певцы дамских плеч и кос, как Толстой и Тургенев, не заметили. (Пушкин и Достоевский снизошли к дамским ножкам.)