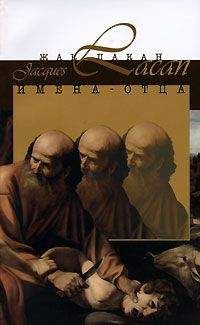Лютер Блиссет - Кью
Состояние церкви в этой части Европы было даже трагичнее, чем можно было вообразить: царствовала религия пиров и празднеств за счет крестьянства, роскошная деградация монашеских орденов и епископов. Нижние Земли остались без духовного руководства, и многие верующие начали отходить от церкви, чтобы вступить в светские сообщества, которые вели совместную жизнь и культивировали изучение Писания. Именно они в первую очередь и должны были воспринять нашу проповедь.
Идеи Лютера распространились среди бедняков и даже среди купцов, богатеющих за их счет. События в Германии казались здесь страшно далекими. Покорность, вновь навязанная крестьянам Германии, не распространилась на рабочих голландских мануфактур: ткачей, работающих на верфях плотников, ремесленников этого постоянно растущего и развивающегося города. Реформированная Лютером религия принесла с собой новые догматы, новые церковные власти, которые отдаляли веру от верующих почти столь же откровенно, как это делали паписты. Равенство в вере, совместная жизнь в общине говорили о необходимости влить новую кровь в тело общества. И мы были готовы ее предоставить.
Пейзаж этой плодороднейшей страны поразил меня. Для выходца из Германии с ее темными лесами было удивительно, как жители Нижних Земель подчинили природу своей воле, отвоевывая у моря каждый метр плодородной земли, чтобы выращивать пшеницу, подсолнечник, капусту. Потрясающее количество ветряных мельниц вдоль дорог, трудолюбивый, не знающий устали народ, способный противостоять стихии и побеждать ее. Город Амстердам поражал ничуть не меньше: рынки, банки, магазины, сеть каналов, порт, где в каждом углу бурлила плодотворнейшая деятельность.
Шли первые дни нового, 1531 года, и, несмотря на сильнейший мороз, улицы и каналы были забиты бесконечными прохожими, снующим взад-вперед. Перевернутый вверх дном город, в котором я мог потеряться. Но Шлепмастер знал нескольких братьев, живших здесь уже какое-то время, и мы начали с них.
Мы установили контакт с одним печатником, так как намеревались напечатать кое-какие отрывки из рукописей Гофмана, которые Шлепмастер перевел на голландский язык, и несколько листовок для раздачи народу. Этим занимался я, в то время как Шлепмастер пытался объединить всех, кого он знал в городе. Мы обрели немало последователей среди ремесленников и рабочих-механиков — людей, недовольных тем, как обстоят дела. В воздухе явно чувствовалось: что-то непременно должно произойти, то ли прямо сейчас, то ли чуть позже.
Меньше чем за год мы умудрились организовать надежную общину, властей, казалось, не слишком волновали какие-то фанатики-анабаптисты, презирающие богатство и возвещающие конец света.
В глубине души я чувствовал: все это — ненадолго. Шлепмастер продолжал проповедовать смирение, мудрость, пассивное сопротивление, как поручил ему Гофман. Я понимал: это временно. А что, если власти решат, что мы представляем опасность для правопорядка в городе? А что произойдет, если обращенным мужчинам и женщинам, подражающим образу жизни Христа, доведется противостоять вооруженным наемникам? Неужели он действительно считал, что в этом и заключается благо — позволить распять себя, не оказав никакого сопротивления? Я-то не был уверен в этом. К тому же я понимал, время не терпит: Гофман предсказал Судный день в 1533 году. Против подобных аргументов не возразишь, так что я просто пожал плечами и отошел в сторону, предоставив ему наслаждаться своей безграничной верой.
Наши ряды продолжали шириться, нравственность была на высоте, преданность крещенных вновь — безмерной. Из окружающих Амстердам деревень приходили неграмотные послания от новых адептов: крестьян, плотников, ткачей. Мне казалось, я очутился в громадном котле, плотно накрытом крышкой, который рано или поздно должен взорваться. Пьянящее чувство.
В конце концов проповеди против богатства в одном из самых процветающих городов Европы сделали свое дело. Осенью того же года Гаагский суд приказал властям Амстердама обуздать анабаптистов и задержать Шлепмастера.
Элои наливает мне воды.
— Ты устал, может быть, пойдешь спать?
В вопросе звучит просьба продолжить рассказ. Он, как ребенок, захвачен повествованием, несмотря на то что я рассказываю ему вещи, которые он уже, вероятно, знает.
— Значит, надо рассказать тебе, что сделали со Шлепмастером и как я решил взяться за оружие. Вначале это было лишь средством оказать сопротивление людям, которым была очень нужна моя голова. — Я вытягиваю руку и ухмыляюсь. — Потом я встретил своего истинного Иоанна Крестителя, того, кто вновь убедил меня бороться против гнетущего ига священников, торговцев, знати. И, Бог ты мой, я это сделал: взял этот меч и начал бороться. Я не жалею об этом. Как и о выборе, который я сделал при виде отрубленных голов, насаженных на шесты. Первой была голова человека, который привел меня в Голландию, возможно одержимого безумием, глупца, который искал мученического венца и обрел его. Но именно с ним это и сделали.
Я почти физически ощущаю, как рассержен Элои.
— Да, Шлепмастер сам выбрал свою смерть, смерть Христа. Он мог ее избежать, если бы сам захотел: Хубрехтс, один из бургомистров, был на нашей стороне и пытался до последнего момента помешать его аресту. Он даже послал к нам слугу, чтобы предупредить: вот-вот должны заявиться полицейские и арестовать главу общины. Я, как и многие другие, воспользовался моментом и быстренько собрал вещи. Но он был не таков, этот Ян Волкерц, производитель сабо из Хорна, ставший миссионером. Он сидел и ждал стражников: ему нечего было бояться, божественная истина и сам Христос были на его стороне. Одновременно с ним схватили еще семерых и отправили в Гаагу. Их пытали не один день. Говорят, Шлепмастеру жгли яйца и загоняли иголки под ногти. Единственное, чего не тронули, — это язык, чтобы он мог выдать имена всех остальных. И он их выдал. И мое тоже. Я никогда не осуждал его: пытки ломают и более сильные души. Мне кажется, его вера настолько пошатнулась под раскаленным железом, что ему было уже безразлично чье-то осуждение. Никто из нас не винит его, мы все же ускользнули от опасности: было много надежных мест, всегда готовых приютить нас.
— Казнили всех восьмерых?
Я киваю:
— Во время казни все восемь опровергли вырванное у них под пыткой: слабое утешение, не знаю, кому из них удалось после этого умереть спокойно. Их головы прислали обратно в Амстердам и выставили на площади. Недвусмысленный намек: каждого, предпринявшего подобную попытку, ожидает такая же участь.
Стоял ноябрь или декабрь тридцать первого, когда Линхард Йост протянул ноги. Это имя привлекало полицейских ищеек, как дерьмо — мух. Спрятавшая меня семья любезно предоставила мне и собственное имя, выдав меня за кузена, эмигрировавшего в Германию и вернувшегося много лет спустя. Букбиндеры, такая у них была фамилия, и их кузен действительно существовал, но погиб в Саксонии, утонул во время кораблекрушения на реке. Fro звали Геррит. Вот так я стал призраком Геррита Букбиндера, для близких — Гертом.
Только начался тридцать второй год, как я получил письмо от Гофмана. Из Страсбурга — у него хватило наглости вернуться. Очевидно, узнав об изысканном обхождении, заслуженном Шлепмастером и компанией, старина Мельхиор попросту наделал в штаны. В письме объявлялось о начале Stillstand,[31] временном прекращении деятельности баптистов в Германии и в Нижних Землях, по крайней мере года на два. С этого момента и впредь нам полагалось держаться в тени в ожидании, пока буря уляжется: больше никаких откровенно дерзких выходок при свете дня, больше никаких прокламаций, не говоря уже об объявлении войны всему миру. По мнению Гофмана, нам стоило стать толпой смиренных прорицателей, усердных и не слишком шумных, готовых дать себя зарезать во имя Всевышнего, всех по очереди, одного за другим. Приблизительно так, более или менее, он писал в месяцы своего пребывания в Страсбурге.
Что касается меня, я пока не знал, чем заняться. Но я не собирался сидеть сложа руки и прячась, как собака от палки, хотя приютившие меня люди были добры и благородны. Однажды в дровяном сарае я нашел старую заржавевшую шпагу, трофей из героического военного похода, в котором, должно быть, участвовал кто-то из Букбиндеров. Я ощутил странную дрожь, вновь сжав оружие в руке, и понял: пришло время совершить нечто грандиозное—мне необходимо покончить с мирным прозябанием, потому что всегда противник встречает нас сталью: будь то сталь алебарды стражников или топор палача. Но я понимал, что в одиночку я много не добьюсь. Это было начало чего-то нового, почти вслепую… Я чувствовал, как трепещу — еще никогда я не испытывал такой решимости и такого просветления: меня не пугало, что моя авантюра перерастет в войну, так как это единственное, за что стоит бороться, бороться, чтобы освободиться от угнетения. Гофман может и дальше продолжать плодить мучеников, я буду искать бойцов. И причиню властям еще немало неприятностей.