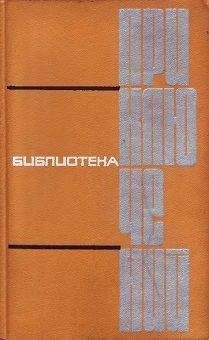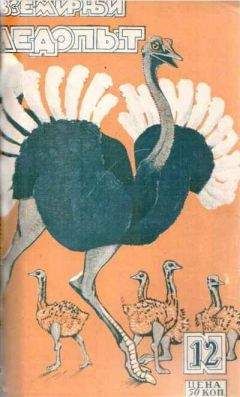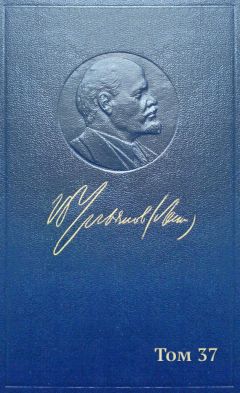Самуэлла Фингарет - Дёмка – камнерез владимирский
– Поспешить с вестью, – пробормотал он вслух и, хлопнув в ладони, мысленно повторил всё, что твердил себе со вчерашнего дня: «Церковь союзником выступит. Мизинный народ до чудес охотник – поверит. Бояре идти поперёк не отважатся. Мальчонка сам промолчит, в спор со святыней не вступит. А если пути в другой раз скрестятся, промашки не будет. Стрела попадёт в цель».
В горенку тенью вдвинулся челядинец Анбал, подал умыться, поправил на лавке сбившийся полавочник.
Был Анбал низкоросл, тёмен лицом и чёрен, как жук. Нрав имел неуживчивый, мрачный. За что полюбился князю и тот приблизил его к себе, для всех оставалось загадкой.
Князь расчесал коротко стриженную с проседью бороду, перетянул витым кушаком ладно сидевшую на широких плечах рубаху с разрезами по бокам, прислушался к шумному разноголосью.
– Боярин Пётр, зять Кучков, с детскими в гриднице[4] засели, – низким гортанным голосом проговорил Анбал.
Просторная гридница находилась поодаль от облюбованной князем горенки, но звуки пьяного разгула проникали повсюду.
– Пируют?
– Рады, что домой воротились.
– Яким где?
– Боярин Яким Кучков к княгине Улите Степановне проследовал.
Сторожевой пёс так не знает своё подворье, как молчаливый Анбал знал каждую малость, случавшуюся в хоромах. Два глаза имел, два уха, а видел и слышал за десятерых. Седлал ли кто не в урочный час коня, встретился ли в укромном углу для тайной беседы – всё становилось известным князеву челядинцу.
– Прикажешь которого-нибудь из Кучковых привести?
– Петра покличь, коли не вовсе пьян.
Пётр влетел в горенку, словно вихрь с ним ворвался. Шитый ворот рубахи распахнут по всей груди. Тёмные кудри на лбу пляску выплясывают. Каменья на рукояти кинжала брызжут по сторонам красными и зелёными лучиками.
– Одна печаль, князь-государь Андрей Юрьевич, что не делишь с нами веселья. На родину возвернулись, мать-землю родную поцеловали. Порадуй детских, пусти чару по кругу.
Пётр склонился в большом поклоне, выбросив руку до пола, выпрямился, сверкнул белозубой улыбкой. Всем взял молодой боярин: отвагой, выправкой, весёлым нравом. Детские готовы были за ним хоть в огонь, хоть в воду последовать.
– Пустое дело пирование ваше, растрата времени, сродни лени. От неё ещё дед мой, Владимир Мономах, потомков предостерегал. «Леность всему беда, – писал он нам в поучение. – Леность, что умеет, то позабудет, а что не умеет, то и не выучит».
– Великий был князь. Восемьдесят три больших похода возглавил, а малых – тех и не счесть.
– Мимо, брат Пётр, не пронеси, что двадцать договоров о мире Владимир Мономах при том заключил.
– Эх, князь-государь Андрей Юрьевич, скажи: чем повеселить тебя, как распотешить? Прикажи – пригоню табуны лошадей, или половцев по степи погоняю, или – вымолви только слово – с одними детскими отвоюю для тебя черниговский стол. – Пётр выхватил из ножен кинжал, рубанул воздух.
– Клинок для охоты побереги, боярин, – остановил Петра князь. – Про войны забудь. Устал я от крови. Коли где сеча случится, в стороне отсижусь, меч, от пращура князя Бориса доставшийся, полой плаща прикрою для верности, не зазвенел чтоб.
Пётр рассмеялся, подскочил к двери, потянул за медную скобу. В открывшийся проём ворвалась песня. Дружинники пели любимую – про походы и сечи, про первого храбреца князя Андрея Юрьевича. Слова и напев этой песни знали по всей Руси.
Как далече-далеко во чистом поле,
Ещё того подале – во раздолье
Ретивой Андрей с одними детскими
Ринулся на вражьих пешцев,
Изломал копьё в первом супротивне.
Дело было на Волынской земле, под городом Луцком. Андрей стяги не развернул, не оповестил стягами братьев о начале сражения. Один, с горсткой воев,[5] ринулся на вражескую пехоту. Атака была, как смерч. Летели копья, в ближнем бою сшибались с лязгом мечи. В хмельной ярости боя Андрей Юрьевич не заметил, как оказался зажатым в кольцо. Коня ранили, копьё разлетелось в щепы. С одним мечом святого Бориса в руках проложил для себя дорогу. Верный конь вынес из сечи и пал бездыханным. С почестями похоронили его на берегу реки Стыри.
Как далече-далеко во чистом поле,
Ещё того подале – во раздолье
Удалой Андрей взмолился речке:
«Ты, бурливая Лыбедь-лебёдушка,
Пропусти мечи скрестить, копьём ударить».
Смертные бои вёл отец за великокняжий киевский стол. Половецкие ханы, братья Андреевой матери, прислали в подмогу отряд из трёх сотен всадников. Противник отца, сын его старшего брата князь Изяслав, получил подмогу от венгерского короля, мужа своей сестры. Били в бубны, трубили в трубы, кричали. Ратоборствовали на суше. Спускали на воду ладьи с хитро устроенным дощатым настилом. Доски служили подмостом для лучников, одновременно прикрывали гребцов. На носу сидел один рулевой, на корме помещался другой. Ладьи двигались взад и вперёд, не разворачиваясь. Андрею Юрьевичу наскучил неспешный ход боя. С малой горсткой союзных половцев переправился он через Лыбедь, а когда половецкие конники в страхе попятились, один бросился на врага.
Как далече-далеко во чистом поле,
Ещё того подале – во раздолье… —
донеслось из гридницы в третий раз. Много было великих сеч, много у песен запевок.
Всех храбрей Андрей на поле Перепетовом,
Укрепил полки на брань, сам впереди пошёл… —
подхватил Пётр Кучков раздольный напев. Но спеть про изрубленный щит и проломленный шлем ему не пришлось. Нетерпеливый взгляд, брошенный из-под припухших век, на полуслове оборвал песню. Трудно было ладить с князем Андреем Юрьевичем. То одаривал братской дружбой, то без всякой причины выказывал гнев. Пётр умолк, поспешно затворил двери.
– Прости, коли не угодил, государь. С малых лет приучен подвигами твоими гордиться. Да не ко времени, видать, радость, верно, за делом звал. Приказывай. Кто тебе враг – и мне тот не люб.
– Поскачешь в Ростов, повезёшь весть о чуде. В Суздаль, Новгород, Псков пошли посмышлёней, из тех, кто были вчера на дороге, когда пресвятая икона остановила коней.
– Слушаюсь, государь Андрей Юрьевич. Детские все при чуде присутствовали. Скажу первой десятке, чтобы кубки не полностью осушали. Поскачем чуть свет.
– Не чуть свет, а сей час! – Сжатый кулак тяжело опустился на лавку.
Пётр опрометью бросился во двор.
Андрей Юрьевич нагнулся к оконцу: окрики, топот ног, ржание лошадей. По тонкой слюде пронеслись быстрые тени. Отряд пересёк двор. Копыта забили по деревянной вымостке.
Выбравшись из-под княжьего взгляда, Пётр пригнулся к седлу, словно не в городе находился, а в поле, крикнул: «Поспешай!» – и помчался, увлекая бешеной скачкой детских. Куры, бродившие без опаски, с кудахтаньем разлетелись по сторонам.
На скрещении улиц, возле землянки, грибом выросшей при дороге, всадникам поклонился человек в кафтане, наброшенном на узкие плечи поверх холщовой рубахи.
– Здоров будь, Кузьмище Киянин! – весело крикнул Пётр.
– С чем двинулись в путь?
– Посольцами едем. Чудо в дорожных сумках везём.
Дружинники рассмеялись. Отряд перестроился. Трое двинулись к Торговым воротам, выходившим на Суздальскую дорогу. Путь других лежал на Москву.
Прислушиваясь к удалявшемуся топоту копыт, человек в кафтане удовлетворённо кивал головой. Был он молод, высок и тощ. На узком лице выделялись большие, как на иконе, глаза и прямой длинный нос. Волосы, подстриженные на лбу выше бровей, спускались вдоль щёк свободными прядями. За долгий рост имя Кузьма залесские люди перекроили в Кузьмище, прозвище добавили Киянин – из Киева, значит. Окружение князя составляли владимирцы, суздальцы, москвичи. Кузьма родился под Киевом, воспитывался в Вышгородском монастыре. В учительной палате книжники-монахи обучали грамоте окрестных ребятишек. Сначала буквам учили, потом складам: «ба», «ва», «га», «да», «бе», «ве», потом цифрам. В написании цифры не отличались от букв, только чёрточку следовало добавить к месту. Кузьма в учении всех обогнал. Восьми лет ему не исполнилось, когда допустили его монахи в монастырское книгохранилище. И открылся мальчонке великий мир.
Раньше он думал, что книги тихие. На поверку вышло, что книги имели тысячу языков. Достаточно было откинуть обтянутую кожей доску переплёта, чтобы понеслись крики ярости, ликования, гнева. Совершал чудеса воинской доблести македонский царь Александр. Книгочей царя Синагрипа Акир обходил все ловушки, подстроенные клеветниками. «Кто добро творит, тому добро будет, кто другим яму копает, тот сам в неё попадёт», – поучал рассказчик удивительных приключений. Со страниц «Топографии» византийского морехода Козьмы Индикоплава вставали неведомые страны, незнаемые моря. Оказывалось, что земля имеет вид доски, шириной в один локоть,[6] длиной в два локтя. «Сверху земля покрыта небом, как сводом, которым покрывают возки. На боковых сторонах небо отсутствует». «Шестоднев» болгарина Иоана раскрывал тайны мироздания. «Физиолог» описывал устройство животных.