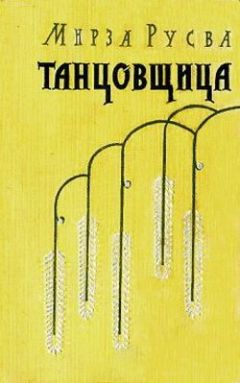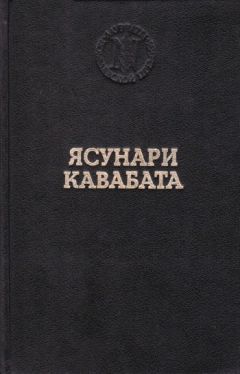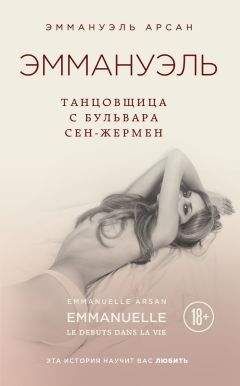Мирза Хади Русва - Танцовщица
– Но у нас ведь не званый вечер, а просто встреча друзей. Пойдемте, пойдемте!
– Ох, Мирза! Вас не переспоришь, – сдалась она. – Ладно, идите. Я приду следом за вами.
Я ушел, а вскоре явилась и Умрао-джан-сахиба, причесанная и слегка принаряженная. В немногих словах я расхвалил ее своим друзьям – сказал, что она любит поэзию, великолепно поет и так далее. Наша гостья возбудила все общее любопытство. Было решено, что каждый, и она в том числе, прочтет какое-нибудь свое произведение. Короче говоря, вечер очень удался.
С тех пор Умрао-джан частенько заглядывала на наши встречи и просиживала с нами час или два. Иногда мы читали стихи, иногда она что-нибудь пела, и все расходились очень довольные.
Я опишу один из таких вечеров. Они не имели никакого определенного распорядка, да и приглашенных всегда было немного – собирались только близкие друзья, и каждый читал свои новые стихи.
МУШАИРАКому я сердца стон поведаю, Ада?
В своих скитаниях весь мир я обошла.
– Ничего не скажешь, Умрао-джан-сахиба! Вы очень удачно выбрали это заключительное двустишие. Но где же остальные? – спросил я.
– Благодарю вас, Мирза-сахиб! Клянусь вам, кроме этих строк, я помню только вступление – ведь газель-то сочинена бог знает как давно. Долго ли держатся в памяти стихи? А черновик, увы, потерялся.
– А какое оно было, это вступление? – спросил мунши-сахиб. – Я его прослушал.
– Да ведь вы погрязли в хлопотах, – ответил я. – Где вам было услышать его?
На этот раз мунши-сахиб действительно готовился к мушаире[8] особенно усердно. Стояло лето. За два часа до захода солнца веранду полили водой, чтобы пол весь вечер оставался прохладным. Поверх ковра разостлали белоснежный хлопчатобумажный половик. Натертые до блеска медные кувшины с водой, в которую были положены ароматные травы, расставили на балюстраде веранды. Их до поры до времени прикрыли глиняными горшками, чтобы вода не нагрелась. Лед был приготовлен особо. В горшочки положили бетель[9] – в каждый по семь порций, завернутых в красные тряпочки и засыпанных цветами кеора,[10] чтобы бетель стал ароматным; а на крышках, лежали щепотки душистого жевательного табака. Большие хукки[11] были налиты водой и увиты гирляндами цветов. Ночь была лунная, поэтому об освещении особенно заботиться не пришлось – принесли только один светильник, в котором горели свечи под белым абажуром в виде лотоса.
К восьми часам собрались все друзья – пожаловали Мир сахиб, Ага-сахиб, Хан-сахиб, Шейх-сахиб, Пандит-сахиб[12] и прочие и прочие. Сперва выпили по чашке молока со сластями, затем приступили к чтению стихов.
– Ну, теперь я послушаю, а вы похлопочите, – сказал мне мунши-сахиб.
– Простите, пожалуйста, – возразил я. – Избавьте меня от этого.
– Так; ну, а все-таки что же это было за вступление? – снова вспомнил он.
– Я сейчас прочитаю его, – предложила Умрао-джан и произнесла:
Пойдя к Каабе,[13] он забыл дорогу зла,
Он веру этим спас, и вера расцвела.
– Хорошо сказано! – похвалил мунши-сахиб.
Потом я попросил нашу гостью:
– Умрао-джан! Прочитайте еще какую-нибудь газель.
– Если что-нибудь вспомню, прочитаю, – отозвалась она и немного помолчав, начала:
Ночь одинокой любви конца никогда не найдет…
– Боже великий! Как сказано! – зашумели присутствующие.
Умрао-джан поблагодарила и продолжала:
– Обратите внимание на это двустишие:
Мой безутешный призыв и камень способен смягчить,
Только дороги к тебе мой стон сквозь года не найдет.
– Что за стихи! – воскликнул я. Остальные тоже похвалили их.
– Вы очень любезны, – сказала Умрао-джан. – Благодарю вас, благодарю!
Даже бездомный бедняк забудет свою нищету,
Ради улыбки твоей и он на страданье пойдет.
Все похвалили и это двустишие. Умрао-джан снова поблагодарила и продолжала:
Только тогда, когда есть во имя кого умирать,
Смыслом наполнятся дни и жизнь без следа не пройдет.
– Слушайте, Хан-сахиб! Это двустишие заслуживает внимания, – проговорил я.
– Именно! – согласился тот. – Действительно прекрасные стихи!
– Все вы, господа, слишком снисходительны ко мне, – сказала Умрао-джан. – А ведь: «Кто я такая и что я значу?»
Даже в ночной тишине я двери свои не запру:
Может, касаясь цветов, она на свиданье придет.
– Это тоже хорошо, – заметил Хан-сахиб.
– Как живо звучит! – добавил Пандит-сахиб.
Умрао-джан поблагодарила их и прочла дальше:
Но равнодушна к мольбам жестокая сборщица слез,
Нет, над окном у меня надежды звезда не взойдет…
– Как чудесно сказано! – похвалил ее Хан-сахиб. – От этих стихов веет духом персидской поэзии.
– Мысль хороша, – поддержал его мунши-сахиб.
– Благодарю вас, – сказала Умрао-джан.
Горестный пленник любви в сетях у тебя, птицелов,
Радужных крыльев своих теперь никогда не найдет.
Все принялись хвалить это двустишие. Умрао-джан снова поблагодарила и продолжала:
О, неужели твой взгляд на миг не обнимет меня?
О, неужели любовь пути среди льда не найдет?
– Теперь послушайте заключение:
Нет, я поверить не смог в безжалостный твой приговор:
«Сердце за сердцем вслед вовек, о Ада, не пойдет».
– Прекрасная концовка! – в восторге проговорил Хан-сахиб. – Но вы сочинили ее, вдохновившись своим опытом; другие придерживаются противоположного мнения.
– Дело не в моем опыте, я просто облекла в стихотворную форму распространенные мысли, – возразила Умрао-джан.
– Прочтите, пожалуйста, еще раз это двустишие, – попросил я.
Умрао-джан снова прочла концовку.
– А мне кажется, что эту мысль здесь можно толковать двояко, – сказал я.
– Ну, что вы, Мирза-сахиб! – удивился Хан-сахиб.
– Газель с начала и до конца проникнута одним настроением, – подтвердили и остальные.
– Обратите внимание на строй стихов, – сказал Ага-сахиб.
– Сколько в них блеска! – добавил Пандит-сахиб.
Умрао-джан встала и поблагодарила.
Тут вошел еще один господин. Его сопровождал человек с фонарем в руках.
– Это кто же пришел? – спросил Хан-сахиб. – Но к чему фонарь в лунную ночь?
– И правда не к чему, – согласился вошедший (то был Наваб-сахиб[14]).
– А, это вы, Наваб-сахиб! – обрадовался Хан-сахиб. – Ну, вы можете позволить себе и не такое.
Наваб-сахиб вошел в круг собравшихся. Все почтительно поздоровались с ним, потом попросили его прочесть газель.
– Я ведь пришел в надежде послушать вас, – проговорил он. – А сам я ничего не помню.
– Нет, джанаб,[15] придется прочитать, – сказал Шейх-сахиб.
– Хорошо, вот все, что я могу вспомнить:
Опасный охотник – пленительный взгляд, спасения нет!
И стрелы любви беспощадно разят, спасения нет!
– Что за стихи! – воскликнули присутствующие.
– Благодарю вас, – сказал Наваб-сахиб и умолк.
– Извольте прочесть еще что-нибудь, – попросил я.
– Клянусь аллахом, сейчас больше ничего в голову не приходит.
Тем временем явился какой-то человек и подал мунши Ахмаду Хусейну записку. Мунши прочитал ее и сказал:
– Подумайте! Мирза-сахиб не придет. Но он прислал свою новую газель.
Я спросил у посланного, чем занят Мирза-сахиб.
– Господин мой под вечер привез из Сикандарбага много английских растений в горшках, – ответил тот улыбаясь. – Сейчас он расставляет их между камней по краям круглого бассейна, а садовник поливает.
– Понятно, – сказал я. – Где уж ему оторваться от столь важных дел, чтобы прийти на мушаиру!
– Боже мой, как жаль, что он не пришел! Ну, так хоть прочитайте его газель, – обратился ко мне мунши-сахиб.
– А меня вы послушать не желаете?
– Да, хорошо, что напомнили, – спохватился мунши-сахиб. – Тогда прочтите сначала свое.
Я прочитал:
О нет, не спрашивай, зачем кружусь в потоке дней:
Я умираю от тоски, живя в разлуке с ней.
Кто научил ее, смеясь, любовью завладеть
И при сопернике топтать цветы души моей?
Изранит до крови того, кто даже боли рад,
И прямо в раны сыплет соль, – что может быть больней?
К чему скрывать, что поцелуй я получил вчера?
Но отрекается она от тех, кто предан ей.
В разлуке умираю я, а ей и дела нет,
И страх ее перед молвой любви ее прочней.
Судьба казнит не для того, чтобы потом прощать,
И, кудри спутав, не спешит пригладить их скорей:
Расколет зеркало в сердцах, уронит гребешок,
И, вздумав кудри причесать, лишь спутает сильней.
О нет, не в силах я забыть, как радуется мир,
Когда она, накинув шаль, выходит из дверей.
В ней нежность спорит с красотой, – о, ты погиб, Русва,
Ничто не сможет облегчить тоску любви твоей.
Присутствующие воздали подобающую хвалу каждому стиху. Я наклонил голову в знак благодарности. Потом прочитал газель Мирзы-сахиба.