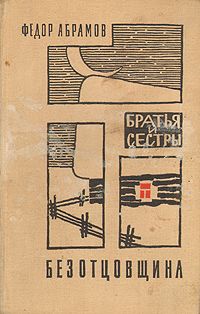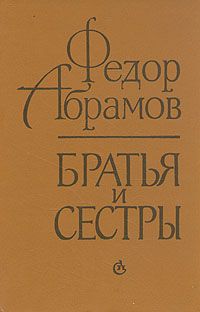Юрий Хазанов - Горечь
Но он не воскликнул этого, а с той же задушевной неискренностью ответил:
— Да в общем, ни с кем особенно. Так, в школу приходили, к нам ведь обычно водят… Немцы, поляки… Американцы были… Ещё в Доме учителя встречи устраивали. Только редко…
Допрос — или, как это назвать, собеседование? — продолжался. Следователь ни на что особенно не упирал; было впечатление, он и так всё знает, что ему нужно, и спрашивает для проформы. А Глеб почти освоился, оцепенение прошло. Давая свои уклончивые, как ему казалось, хитрые ответы, он мог уже без затаённого страха смотреть прямо в глаза следователю, мог отвлечься и взглянуть на обстановку кабинета, на портрет, готовый упасть. Он даже осмелился спросить у следователя, а где же сейчас тот, кого обвиняют? Говорили уже с ним?.. И следователь любезно ответил, что он здесь, по соседству, в другом кабинете, и уже дал признательные показания. Тогда на том же «голубом глазу» Глеб поинтересовался, что же с его другом будет. И опять услышал вполне дружелюбный ответ: да пожурят немного и отпустят, чего ж ещё?..
— А скажите, — спросил после этого следователь, — что вы знаете о том, что Зинаида Оскаровна (он назвал фамилию пожилой женщины, давнишнего друга семьи Марка) предлагала вашему другу темы для его клеветнических произведений?
Был, был такой разговор у них с Марком, он точно помнит. Тот рассказывал, какой интересный сюжет предложила «старуха Зина», прямо хоть рассказ пиши, и Марк потом его написал и читал Глебу… Значит, и про это знают?.. Откуда? Выходит, говорили с самим Марком. Или с Зинаидой Оскаровной… Неужели её вызывали? Что ж, надо и ему, Глебу, о чём-нибудь сказать «да» — чтоб достоверней было, а то всё больше «не помню», «не знаю»…
— Кажется, припоминаю, — сказал Глеб. — Какую-то тему подсказала… Но ведь темы это… Вот Пушкин Гоголю тоже подсказал…
— Кажется или точно? — Отношения Гоголя с Пушкиным следователя явно не заинтересовали.
— По-моему, точно. Только ведь сюжет можно развить как угодно.
— А ваш друг как развил? Вам понравилось?
— Я не знаю, о чём именно речь, но, конечно, не все стихи или рассказы, какие я знал, нравились одинаково. Так ведь не бывает. Есть лучше, есть хуже. Даже у классиков…
— Оставим их в покое! А как насчёт клеветы и поклёпа на советскую действительность? Если самогС секретаря обкома обсмеивают, в чёрного кота превращают? Это что? Не вражеская вылазка?
— Я бы так не назвал. Скорее, критика. Ну, сатира… Осмеяние каких-то неблаговидных вещей. Как у Салтыкова-Щедрина, Гоголя…
— Что вы мне всё время Гоголя вашего суёте, гражданин Гархазин? Гоголь при капитализме жил. То есть, при феодализме… Или как его… При крепостном праве. А у нас…
Следователь с усмешкой взглянул на Глеба, открыл ящик стола, достал пачку плотных листов. Ксерокопия. Бросил перед Глебом.
— Читайте! — сказал он. — Стишки вашего друга. Если не все помните…
Откуда они взяли? Значит, их, действительно, напечатали где-то? Марк ничего не говорил. Может, сам ещё не знает? ЗдСрово… Вот знакомые стихи… И эти… Наизусть помню… Вот ещё… А эти не знаю… Неужели вышла целая книжка?..
Он стал читать глазами.
…Струилась осень. День за днём
Линяла летняя палитра.
А я вовсю играл с огнём
И тайно жаждал опалиться…
И ещё:
…Пора допить остатки смеха,
Допить измены, страсть и труд!
— ХанА, дружок мой. Я приехал.
Пускай войдут и заберут…
Глеб вспомнил, как не раз в последние недели его, и не только его, пугал внезапно остановившийся взгляд Марка и как тот странно встряхивал потом головой, снова включаясь в беседу. Об его страхах Глеб ни разу от него не слышал, но вот в этом стихотворении, например…
И в другом (под названием «На ринге») тоже:
…Мне от беды не отвертеться,
Меня везде достанет плеть,
А всё ж не будет полотенце
У ног, постыдное, белеть!
Я жду: сейчас меня накажут
За дерзость и за простоту.
Ну, что же — бей! Пускай нокаут
Под схваткой подведёт черту…
Следователь поднялся, обогнул стол, приблизился к Глебу, встал сбоку.
— Что? Интересно? Зачитались? — Он ткнул пальцем в подчёркнутые строки. — А вот это? — И начал читать вслух, с трудом, как человек, не привыкший к стихам, делая неправильные паузы и ставя ошибочные ударения:
…Эх, недостреляли, недобили!
Вот и злись теперь и суетись,
Лезь в метро, гоняй автомобили,
У подъезда заполночь крутись.
Эх, недодержали, недожали,
Сдуру недовыдавили яд!
Дожили: заветные скрижали
Отщепенцы всякие чернят.
Чуть прижмёшь — кричат:
— Суди открытым!
Песенки горланят белым днём,
Письма пишут… Что ни говори там,
А при Нём…
Глебу было и жутковато, и интересно: хотелось, чтобы скорее закончилось, и не хотелось этого — как в детстве, когда читал про что-нибудь страшное. Впервые в жизни видел он отпечатанные типографским способом такие откровенные стихи близкого друга, впервые обсуждал их в таком месте. (Если это можно назвать обсуждением.)
— …Ну, это вам что? — продолжал выкрикивать следователь над его ухом. — Слова нашего человека? Или отъявленного врага? Вы бы сказали так? А? Вот вы? — Вопрос был явно не риторическим, следователь ещё раз повторил его с нажимом и, отойдя от стола, пристально посмотрел на Глеба.
— Нет, — почти механически ответил Глеб и тут же попытался оправдаться перед собой, пояснив себе, что, конечно, не сказал бы такое этому человеку и таким, как он, потому что и небезопасно, и абсолютно бесполезно…
Он уже читал на другом листке стихотворение, которое тоже никогда не слышал от Марка:
…Да будет ведомо всем,
Кто
Я
Есть:
Рост — 177,
Вес — 66;
Руки мои тонки,
Мышцы мои слабы,
И презирают станки
Кривую моей судьбы;
Отроду — 40 лет,
Прожитых напролёт,
Время настало — бред
Одолеваю вброд…
И опять вмешался чужой голос:
— А это? Глядите, глядите!
Против Меня — войска,
Против Меня — штыки…
Да кому он нужен, подумаешь? Много понимает о себе!
— Он на войне был, — попытался заступиться за друга Глеб, понимая всю нелепость заступничества. — У него серьёзное ранение.
— Я тоже был, — сказал следователь. — Но это не про войну. Не крутите мне шарики.
Глеб тем временем читал дальше:
Против Меня — тоска
(Руки мои тонки);
Против Меня — в зенит
Брошен радиоклич,
Серого зданья гранит
Входит со мною в клинч…
Можно меня согнуть
(Отроду — 40 лет),
Можно обрушить муть
Митингов и газет…
Можно затмить мне свет,
Остановить разбег!..
Можно и можно…
Нет!
Я ведь — не человек…
Я — твой окоп, Добро,
Я — смотровая щель…
Пушки твоей ядро…
Камень в твоей праще…
— …Что он о себе мнит? — снова услышал Глеб. — Разве может так рассуждать советский человек?
— Нет, — сказал Глеб, на этот раз вполне осознанно.
Сейчас он думал о другом: почему Марк не показывал ему большинство из этих стихов? Было немного обидно: не доверял, что ли, или самому не очень нравились? Но стихи превосходные. И какие-то — как бы точнее сказать? — совсем взрослые, зрелые. Что почти синоним к слову «мудрые». А эти полуграмотные гады чёркают их, проверяют на свет, на цвет, на патриотичность в своём понимании… Вот опять пристаёт:
— Вы бы так написали?
— Нет, — повторил Глеб совершенно искренне и опять перевернул страницу.
— Что, понравилось? — догадался следователь.
— Мне?
— Вам.
— Что-то нравится, что-то не очень.
— Вам нравится, — отчётливо проговорил следователь, — когда человек клевещет на страну, в которой родился, которая его поит и кормит, которую он сам защищал от врагов? Нравится, когда ругает её в хвост и в гриву перед нашим идейным противником?
— Нет, но если…
— Никаких дискуссий и дебатов! — прикрикнул майор Кондовый, немало удивив Глеба набором синонимов.
Собрав со стола листы со стихами, следователь уложил их в папку, уселся на своё место, небрежно взял в руку лежащий перед ним паспорт Глеба.
— Значит, так, Глеб Зиновьевич, — заговорил он вполне доброжелательным тоном. — Мы с вами хорошо побеседовали, много чего обсудили, верно? И теперь нам пора прощаться. Через десять минут вы уйдёте, я подпишу пропуск. Но сначала…