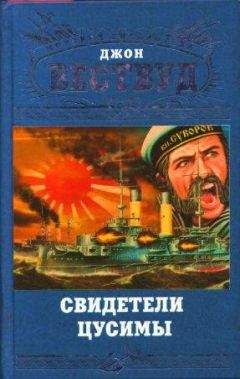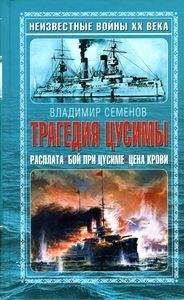Леонид Гиршович - Обмененные головы
Так что же я здесь надумал? Еврей, солдат, мужчина, русский человек, наконец? У него была довольно своеобразная иерархия показателей жизнестойкости. Магад держал перед собой папку с моим личным делом, черпая оттуда все новые аргументы: а жена, почему я о жене не подумал – вдовой захотел сделать? Я объяснил магаду его ошибку.
Что ж, и через это должен мужчина раз в жизни пройти. В назидание он долго рассказывал мне об утратах, выпавших на его долю: тут и семья, погибшая в гетто, и войны – сколько друзей в каждой полегло: Мулик Ковенский, Шмулик Виленский, Срулик Варшавский [19] … Да сколько еще в жизни всего было! А вот он же живет – и счастлив. Сейчас он предоставит мне недельный отпуск, а там поговорим снова.
В проповедники магад годился так же, как, боюсь, и в полководцы. Но вот перед тем, как меня отпустить, он, при этом покраснев, сунул мне сто лир – чего я ему никогда не забуду (дело даже не в этих двадцати долларах – хотя я не представляю, на что бы жил иначе эту неделю).
Честно признаться, на него, по-моему, подействовала одна моя фраза – она и на меня подействовала, когда задним числом я разобрался, что за нею стоит. Магад спросил меня, между прочим, почему «для этого» я вернулся в часть. Я растерялся: действительно – почему? Стал соображать и понял – о чем, как смог, ему и сказал: я ведь живу в нормальном городском доме, как же там выстрелить? Еще в армии, тихонечко… все-таки как бы среди военных… Тут я сам себе умилился. Получалось, что я очень хороший человек, – как же такому умирать?
На сей раз владелец подобравшей меня на шоссе машины оказался тоже «русским человеком». Из разговорчивых. Признав во мне своего, он не умолкал уже ни на секунду. Лейтмотив же был: эх, и здорово я живу! Есть такие бодрые люди – на вопрос «как поживаешь?» они отвечают неизменным «лучше всех». Этот даже не хвастался тебе напрямую, он «ворчал». Архитектор попался шарлатан. Жена поехала в Париж – десяти тысяч как не бывало. Сейчас из Западной Германии кухню выписал… Вот действительно страна! Знаю ли я, например, что в немецких оркестрах все музыканты – миллионеры? Не то что у нас в Тель-авивской филармонии – какие-нибудь полторы тысячи долларов в месяц, и это со всеми записями. Зато послушать скрипачей в Германии!.. Цирк. (Сам он скрипач.) Их там просто нет. Кто хочешь может поступить в оркестр. Только скрипку возьми в левую руку, а смычок в правую – пять тысяч марок тебе обеспечены. Он лично знает одного страхового агента, музыкальную школу в Мелитополе закончил – теперь сидит помощником концертмейстера в Гамбурге. Тут выясняется, что помимо страхового агента из Мелитополя он лично знает и других, более выдающихся деятелей музыкального искусства: Славика Ростроповича, Даника Баренбойма, Анечку-Софочку Муттер [20] . Я аккуратно подвел его к имени Лисовского – тоже земляк, приехал голый-босый, а какую, говорят, карьеру себе делает. Нет, здесь почему-то он меня не поддержал: да, конечно, но до Лени Бернстайна ему еще далеко. И снова заговорил о доходах оркестрантов в Германии.
Видно, судьба подослала мне этого Мюнхгаузена не для мазохистских упражнений (я же не верю больше в совпадения – да-да, мне подозрительны совпадения, чреватые промашками из «узи» с расстояния в микрон. Дня два спустя – это я к тому же – тель-авивский оркестр играл что-то по телевизору. Я не мог слышать через стекло витрины, что именно, но я бы мог отчетливо разглядеть своего нового знакомого – если бы он там находился). Он высадил меня с пожеланием скорейшего выздоровления, имея в виду забинтованную голову – я сказал, что один ненормальный открыл у нас стрельбу в казарме. На это мне было замечено, что парень, как пить дать, захотел демобилизоваться, старые фокусы.
Я вспомнил об этом, когда еще до истечения моего отпуска получил бумажку с треугольным штемпелем, положившую начало недолгой процедуре моей демобилизации. В итоге и многое другое из того, что он говорил, мне перестало казаться таким уж неправдоподобным. А ведь между тем я должен был решить, что делать дальше, – чем прежде себя никогда не утруждал: сперва это была всецело мамина прерогатива, после – Иринина.Мне выпало несколько блаженных лет: верить в свою избранность. Даже теперь, когда все вырвано с корнем – и лунка заполнилась кровью, скажу: это было прекрасно, я ни о чем не жалею (Non, rien de rien, non, je ne regrette rien [21] – голосом Эдит Пиаф). Я целыми днями лежал в кровати и рассуждал об этом. Хотелось бы знать, а как это случается у других, нас в Харькове было много таких – званых [22] . И вдруг приходит контролер, проверяет твой билет и переводит тебя из первого класса – где ты уже расположился – в третий. Каково? И ведь живут же дальше, не умирают.
Он говорил – этот тип – про скрипачей в Западной Германии. Все-таки я закончил музыкальное училище и был не из последних. Правильно – мысленно возражал я себе же, – все эмигранты говорят одно и то же: врачи – что здесь лечить не умеют (да были б в России у нас такие препараты, Господи…), учителя в ужас приходят от здешних школ, ученые за голову только хватаются: что у них в науке творится… И все, кого ни послушаешь, твердят – каждый о своем: профессиональный уровень здесь – ка-та-стро-фа. Почему бы советским скрипачам не петь ту же песню: скрипку в левую, смычок в правую – и пять тысяч марок зарплата. Непонятно только, откуда Берлинская филармония взялась. Я наслушался таких разговоров, люди спасаются ими, все верно, но… с демобилизацией-то он оказался прав.
В любом случае мне надо было чем-то себя занять. Так по прошествии стольких лет, робея и волнуясь, я открыл футляр, в котором лежала моя скрипка: что-то еще от меня осталось как от скрипача? Это по Ирининому настоянию мы взяли с собой скрипку. Мне милей было ее продать, а не наоборот – еще и тратиться на нее: носить к фотографу, к оценщику и в конце концов уплатить бешеную таможенную пошлину за вещь, которая никогда больше в жизни не понадобится. Собственно, Ирина держалась того же мнения – что не понадобится. Тем не менее при слове «скрипка», «скрипач» (ах!) с ней происходило то же, что со всеми. Что бы там мама ни говорила, она очень даже ценила во мне «скрипача». И уж никак не могла понять, почему, став писателем, надо зарывать в землю другие свои таланты. Почему «надо Энгру отказываться от своей скрипки» – вот как мы тогда выражались. Как мог, пытался я объяснить, что этюды Крейцера под аккомпанемент маминых воплей мне с детства отбили охоту «творить» смычком по струнам (вспоминаю моего учителя с воздетым перстом: «Крейцер, как говорил твой дед, это наш ежедневный хлеб, смоченный потом и слезами» – взгляд украдкой в сторону матери, всегда сидевшей на уроках).
Быстрей всего возвращалась беглость: пальцы на струнах орудовали уже как маленькие канатоходцы, а смычок по-прежнему оставался соломинкой в лапе орангутана. Практически у меня не было с собою нот. Приходилось играть – не считая гамм, гнущихся под тяжестью штрихов, – по тем нотным листочкам, что так и остались лежать в футляре после моего выпускного экзамена: 3-й Сен-Санса, 3-й Моцарта, ларго из 3-й сонаты Баха (порядковый номер ларго тоже три: после адажио, после фуги). В сумме же счастливое число для всех конфессий [23] ; возможно, это и зачлось. Как бы то ни было, вместе с выученной когда-то программой в руках просыпались рефлексы, воскрешение которых на ином музыкальном материале (пускай даже более благоразумном для начала – «диетическом») не пошло бы так гладко. Это как, начав читать давно и основательно позабытую поэму – однако не менее основательно зазубренную в детстве, видишь: память уже забегает вперед, вспоминается вдруг что-то из середины, причем целые куски. Руки тоже – благодаря знакомому репертуару – проникались ощущениями, даже еще не востребованными.
Парой недель позже, когда голова была уже разбинтована, а по всему лбу, от оконечности правой брови к будущей левой залысине, пролегла багровая трасса (врач на мой вопрос сказал, что навсегда), когда я уже, можно сказать, был снова скрипачом, смачно извлекающим из скрипки начальные звуки сен-сансовского концерта, что у меня всегда эффектно получалось и с ходу приносило несколько добавочных очков, – в дверь позвонили.
Все оборвалось. Я опустил скрипку. Как это будет? С чем она пришла? Одна ли? С ним ли? С адвокатом – на предмет раздела воздуха? Либо… Она же сумасшедшая, сейчас стоит под дверью, которую я открою… Я тогда сошла с ума… Я – вернулась назад. Так, со скрипкой, я и открыл дверь.
Эся. Вошла. Как всегда, короткие движения, брови удивленно вскинуты, веки надменно опущены. Она ведь никогда не видела меня прежде со скрипкой. Посмотрела на мой лоб, ничего не сказала, но про себя, по-моему, ахнула. Я усмехаюсь: меченый теперь буду. Пиратское слово, отныне всерьез применимое ко мне. Я повторяю его несколько раз, примеряя то одну, то другую интонацию. Меченый! Меченый… Меченый? Меченый?!
Эся быстро села, на что там у меня можно было сесть, и закрыла лицо руками. Я узнавал тонкие вздрагивающие мамины пальцы – не израильские; у уроженок этой страны руки обычно крупные – при маленькой стопе (а у немок наоборот). Пантомима под названием «Ужас». Наверное, неподдельный, я в Эсе плохо разбирался. Другой вопрос, чем уж она была так потрясена, неужто только рубцом на лбу? Почему она ко мне приехала? Непрошеное сострадание само по себе достаточно неприятно. Я же у нее ничего никогда не просил. Еще неприятней прозвучало сказанное ею, шепотом: тебе тоже крикнули под руку?