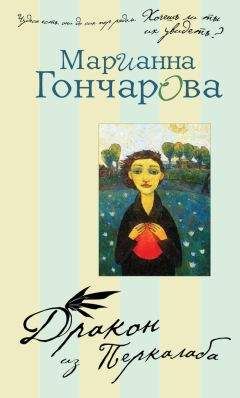Виктор Зонис - Соломон. Царь тысячи песен
Плавт оглянулся по сторонам и, увидев, что к ним рысью приближается та самая сирийская ала, приободрился и решительно поднял руку.
— Внимание и повиновение! — хриплым, сорванным голосом скомандовал он. — Именем великого императора Рима всем немедленно разойтись! За неповиновение — смерть!
Толпа при виде сирийских всадников с угрозами и проклятьями отступила на несколько шагов. От нее отделился довольно опрятно одетый молодой мужчина. Он решительно подошел к Плавту, с вызовом посмотрел ему прямо в глаза и на хорошей латыни зловеще произнес:
— Хочешь больших неприятностей, римлянин?
Рука Плавта инстинктивно сжала рукоятку меча:
— Ты мне угрожаешь, иудей? Захотел мучительной смерти?
Тот, нисколько не смутившись, продолжил:
— Твои люди, словно бешеные собаки, напали на дом уважаемого жителя Иерусалима и тяжело ранили нескольких ни в чем не повинных людей!
— Они уже повинны в том, что оказали сопротивление римским солдатам, выполняющим специальное задание!
— Специальное задание? Грабить бесстыдно среди белого дня — это специальное задание? Ты лжешь, куратор, и эта ложь дойдет до ушей твоего командующего! Или ты, кентурион, не знаешь, что есть указ о жестоком наказании за грабеж и насилие? Указ, подписанный нашим Первосвященником и вашим командующим! Так что не сносить головы твоим легионерам за грабеж и разбой и тебе — за покрывательство их.
Плавт быстро сообразил, что угроза эта не пустая, и уже спокойно и примирительно произнес:
— Я никого не покрываю, а хочу разобраться в том, что здесь произошло. Если мои люди неправы, они будут строго наказаны. Раненым мы окажем помощь, и они получат достойную компенсацию. С хозяином дома я поговорю сам.
И, видя недоверие в глазах собеседника, добавил, ударив себя в грудь кулаком:
— Слово Титуса Гонория Плавта — кентуриона и куратора!
Мужчина повернулся к толпе, окружившей их плотным кольцом. Он воздел руки к небу и торжествующе прокричал:
— Слышали, братья? Преступники будут наказаны, а раненым и ограбленным будет оказана помощь и выдано вознаграждение. Римлянин дал слово!
Когда улица опустела, Плавт подошел к своим легионерам.
— Так, жалкие дети гиены, все расходы — из вашего жалованья. Все, как один, на две недели в караул безвылазно. Из лагеря отлучаться только за смертью! Ну, и чем поживились, недоумки?
Солдаты нехотя расступились, и Плавт увидел старинный полусгнивший деревянный ящик. Он многозначительно переглянулся с командиром алы и резко скомандовал:
— Всем немедленно в лагерь. Ящик доставить мне в палатку!
* * *Плавт осторожно подцепил мечом петли и открыл крышку. Ящик был доверху набит тонкими глиняными табличками.
— О, нет! Боги, зачем вы издеваетесь надо мной? — разочарованно выкрикнул он.
— Погоди! — сириец осторожно достал из ящика древнюю табличку, аккуратно стер с нее пыль. — Погоди, погоди…
Он подошел близко к светильнику и начал медленно разбирать слова: «…На тридцать седьмом году царствования Давида над Иудеей и Израилем…»
— Что ты там возишься с этой иудейской рухлядью! — раздраженно сказал Плавт. — Выбрось этот хлам. Вон сколько пыли поднял. Пойдем лучше промочим горло: я знаю здесь одно более-менее приличное местечко.
Сириец с сожалением оторвался от чтения таблички и бережно положил ее в ящик.
За кружкой вина он спросил римлянина:
— Ты, наверное, здесь недавно, Плавт?
— Это, смотря как считать: мне кажется, что целую вечность!
— Да, здесь все отдает вечностью. Но, с другой стороны, платят неплохо, да и делать особенно нечего, пока.
— Почему — пока? Разве эти дикари способны на какое-то организованное сопротивление? — удивился Плавт.
— Вот вы все такие, римляне, заносчивости много, — улыбнулся сириец. — Я здесь уже третий год и кое-что понял. Да и историей немного интересуюсь. Они — фанатики! За своего мифического, невидимого Бога готовы пойти на смерть и с собой унести туда тех, кто посягает на их веру и свободу. Можешь мне поверить, Плавт, я здесь достаточно насмотрелся! И то, что римские легионы сейчас в Иерусалиме, это ненадолго. Появится среди них какой-нибудь пророк, и будет страшная резня. Вот увидишь, прольются реки крови — и нашей, и их.
Плавт презрительно фыркнул:
— Ну и сказочник ты! Какие реки? Да один легион справится со всем этим грязным сбродом!
Сириец покачал головой:
— Если бы так, если бы так… Ты знаешь, меня никто не может упрекнуть в трусости или паникерстве. Но если поднимется бунт, каждый дом, каждый куст, каждый камень на дороге будет нести нам смерть! Тогда и десять легионов не помогут. Их нельзя покорить, можешь мне поверить. Уничтожить можно — покорить нельзя!
— Ладно, время покажет, кто из нас прав, — махнул рукой Плавт. — Скажи лучше, зачем тебе эти варварские письмена?
Сириец немного подумал.
— Понимаешь, когда-то, на родине, я занимался обжигом глины и изготовлением из нее различных изделий. Так вот, табличкам этим не менее тысячи лет! Не могу сказать тебе определенно, но, зная, как иудеи бережно и ревностно относятся к своему прошлому, можно попытаться продать эти таблички… в них, по-моему, говорится о каком-то их царе. Я не силен в иудейском, но знаю одного ученого человека в Риме и хочу, чтобы он все это прочитал и перевел. Тогда буду знать, как поступить дальше.
Плавт неодобрительно покачал головой:
— Я тебе, конечно, все это отдам, но уверен, что ты большой мечтатель. Никому не нужны эти грязные таблички. Через пару лет Израиль станет римской провинцией, и мы заставим их забыть своего смешного Бога, и какого-то жалкого царя.
— Ну что ж, — задумчиво произнес сириец, — нам не дано знать, что будет завтра. Тысячу лет хранились таблички в ящике, пусть пока полежат еще немного. Может, не я, так дети мои будут знать, что с ними делать…
Глава 3
Я, Экклезиаст, был царем над Израилем е Иерусалиме; и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.
Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все — суета и томление духа!
Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это — томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Экклезиаст. Гл. 1…На тридцать седьмом году царствования Давида над Иудеей и Израилем постигла его тяжелая болезнь. Царь потерял интерес к жизни: больше не входил к женщинам, пищу принимал скудно и с отвращением. У него ничего не болело, только все чаще и чаще отказывали ноги и руки, пропадали голос и зрение. В самый жаркий день царь страдал от холода, и даже под толстым покрывалом его бил озноб. Во дворец привели юную красавицу, Ависагу-сунамитянку, которая призвана была согревать дряхлеющего Давида теплом своего тела. Но это тоже не помогало…
Болезнь его была странной и неведомой, и собранные со всего света врачеватели и мудрецы беспомощно разводили руками. От египетского фараона были доставлены для Давида мази и растирания; тирский царь Хирам прислал знаменитого колдуна — заклинателя демонов и покорителя диких зверей. Ничего не помогало — Давид таял, как догорающая свеча.
Это не замедлило отразиться на положении дел в стране: на западных и северных границах происходили волнения, наследники Давида раскачивали лодку власти, примеряя на себя царский венец. Пророк Натан, священник Садок и военачальник Ванся, сын Ахелуда, пытались удержать бразды правления от имени Давида, но их мало кто слушал.
Когда же царевич Адония, сын Агиффы, собрал на знатный пир братьев своих и многих влиятельных людей — противников Давида, а младшего из детей царя, юного Соломона, не пригласил, пророк Натан забил тревогу. Верные люди донесли ему, что на пиру том Адония объявил себя царем, и очень многие из присутствующих поддержали его.
Уже ранним утром следующего дня Натан, Садок и Ванея собрались в покоях у Вирсавии[3], матери Соломона.
— Слышала ли ты, царица, сколь страшные события происходят сегодня в пределах Израилевых? — спросил Натан.
Вирсавия пожала плечами:
— Ты же знаешь, мудрый, что меня не интересует политика, только здоровье и благополучие возлюбленного хозяина моего, Давида… С ним что-то случилось плохое? — тревожно всплеснула она руками.
— Разве может быть хуже с царем, чем есть сейчас? Даже смерть была бы для него лучше, чем унижение, которое терпим мы от имени его! — сказал Садок.