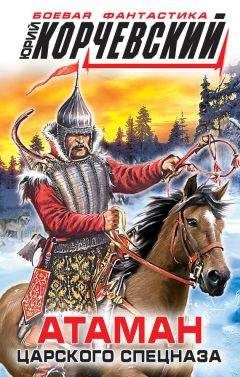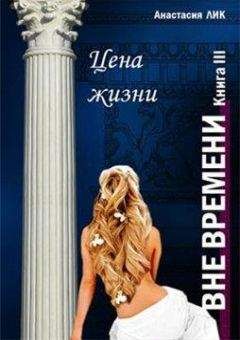Юрий Крутогоров - Повесть об отроке Зуеве
— Счислять прибытки? — усмехнулся Шумский.
— Ну.
— Эх ты, Федор, простая душа. У Васьки по всем приметам виды на науку.
— Виды… От видов полушка не набежит, сам знаешь.
Шумский пил чай, чашку за чашкой. Лицо утирал полотенцем. В самоваре отражались его бурые щеки с бородой, высокий лоб, рот. Хитро посматривал на свой медный лик.
— Третьего дня, — говорил Шумский, — в «Ведомостях» читал: зовут разночинных в гимназию.
— Чего не напишут в твоих «Ведомостях».
Ваське смерть как неохота к Саватееву — сивухой от него на версту разит, рожа адская, глаза рачьи.
Нашла коса на камень — поп свое, а черт свое. Не сдается Шумский.
— Читал я в одной книжице: арифметика простирается до известных родов счисления. М-да. Но есть еще… — Шумский победно поднимает палец. Палец убедителен, беспрекословен, перст, а не палец. — Но есть еще Аналитика. Высоко человеческий ум простирается. Выучиться бы крестнику на знателя!
Видел Васька знателя. В черном фраке, чулки зеленые, стекла в глазах. Осматривал лавки в Гостином дворе. Илюшка Артамонов сукно ему понес. И Ваську позвал. Знатель из немцев, но по-русски болтает. Рассказал, что скоро рощу будет сажать за городом. Для кораблей. Он лесной знатель, формейстер.
Хорошо быть знателем. На небе вон сколько звезд, а как зовутся?
Засыпая, Васька все вспоминал господина, который землю ел. Тоже небось знатель.
Утром побежал на огород. Высматривал знакомую кибитку.
— Коли, коли, коли! — орал на ближнем плацу капрал.
Новобранцы штыками-багинетами терзали мешочные чучела.
Солдаты шли на приступ, согласно военной науке фортификации.
А Васька думал о других науках. Сколько их — не перечесть. Есть такие, что рассказывают о всяких телах, на земле обитающих. О травах, о деревьях, о минералах.
Водил его как-то отец в «Глобус» — каменные хоромы; наверху — башенка, внутри — круглая зала, а в зале — преогромный голубой шар. Это и есть глобус-планетариум. Входишь внутрь — красота неописуемая. Звезды нарисованы, знаки, похожие на зверей, солнце, луна.
Шар вокруг тебя, как карусель, плывет, вся небесная твердь кружится над головой.
Вечером, когда отец вернулся с караула, Вася твердо сказал:
— Батя, пойдем на Троицкое подворье. Не пойдешь — сам побегу.
Глава, в которой рассказывается, как гимназисты обещались удаляться от всяких пороков и поощрять друг друга к благонравию и честному поведению
В длинном сводчатом коридоре выстроились школяры. Рядом с Васей Миша Головин, Коля Крашенинников, Фридрих Рихман.
Перед ними — инспектор гимназии Семен Кириллович Котельников. Чуть поодаль столпились гимназические учителя — Румовский, Мокеев, Протасов, надзирательница Софья Шарлотовна.
Котельников большим и указательным пальцами касается горла, прокашливается.
— Прочитаю я сейчас присягу, обещание на благонравие и честное поведение. Отныне будете его придерживаться, потому что вступили во врата учености.
Лет двадцать назад Котельников вместе со своим другом, бурсаком Протасовым, ныне доктором медицины, принимали здесь эту присягу. И вот новая поросль — успешно ли пройдут врата учености?
— Что стану говорить — за мной повторяйте.
У Котельникова голос чистый, отмытый, приуготовленный к священнодействию.
— Обещаем мы отныне исправлять жизнь…
— …исправлять жизнь, — разноголосо вторят мальчики.
— И при крайнем прилежании к учению, удаляясь от всяких пороков и подлых поступков, друг друга поощрять к благонравию и честному поведению…
— …и честному поведению…
— Если же между нами окажется умышленный пренебрегатель сего нашего обещания…
— …сего нашего обещания…
— То мы будем просить, дабы оный был извержен из нашего числа…
Котельников сдергивает сияющие стеклышки с носа, машет ими перед строем новоиспеченных школяров, как бы осеняя крестным знамением. Солнечные зайчики скользнули по башмакам Зуева.
— Все ли уразумели? — Котельников машет рукой; солнечные зайчики играючи обежали зуевское лицо.
Другая жизнь начинается, в ней надо удаляться от всяческих пороков и подлых поступков. А какие пороки? И как от них удаляться? Тихонько, на цыпочках, истончившись до невидимости, или бегом, увернувшись плечом, чтобы не засалили?
Про подлые поступки-то он сам знал.
2В крохотной келье (тут раньше жили монахи) две лежанки. Одна — Васькина, другая — Мишеньки Головина.
У окошка — столик с табуретом, на стене масляная плошка. Зажжешь фитилек — черной ниточкой коптит; тень от черной ниточки — на стене. Ужасно воняет дегтем и уксусом, два запаха — кто кого переспорит: горчайший или кислейший. Кельи окуривали против эпидемии, которая обнаруживалась у жителей столицы сухим кашлем и болью в груди. Грипп — так называется иностранная болезнь. Уксусный дух и деготь напрочь ее изгоняют.
Мишенька Головин, едва ввели в келью, сказал:
— Дурак будет спать у левой стенки, а балда у правой.
— А как узнаем? — спросил Вася.
— Лебеда, лебеда, ты дурак, а я балда, — моментально рассчитал Мишенька и, подскочивши, с размаху улегся на правой кровати.
Так началась жизнь Василия Зуева в гимназии.
Уходить из Троицкого подворья без спросу не позволялось. Зато какая радость, когда навещал отец. Вася с разбегу бросался ему на грудь, обхватывал шею руками, дрыгал ногами от счастья. Федор тихонько ставил сына на пол, развязывал мешочек с гостинцами, усаживался на табурет, клал локти на стол, чтобы меньше места занимать, подмигивал: «Ну, монашек, руби-коли…»
Мешочек, расшитый цветными нитками, из другой жизни — от Семеновской слободы, от плаца, от огорода, от Царицыного луга. Уксусный дух слаще становился.
— Головин, иди баранки есть, — кричал в коридор Вася.
Отец, как узнал, что Мишенька Головин из Беломорья, приветствовал его необычно:
— Здоров, Шелонник Иваныч!
— Ты отчего его так назвал? — спросил Вася.
— А это ты у товарища спроси.
Позже Мишенька Головин рассказал Васе: на севере всякий ветер свое имя имеет. Есть «полуношник», есть «обедник», есть «побережник». А один ветер, что с устья речки Шелони, получил у мореходов и поморов прозвище — Шелонник Иванович.
— Если по ландкарте смотреть, выходит зюйд-вест, — заметил Вася.
— Верно! А еще можно по компасу глянуть. У меня есть. Отец дал. Гляди, говорит, не заблудись в столице.
Впервые в жизни Зуев держал на ладони деревянный резной кружок с пугливой стрелкой на иголке. Подрагивает стрелка, черным концом показывает в ту сторону, где Полярная звезда. Какую штуку придумали поморы? Башковиты. Без компаса в море делать нечего. Собьешься с пути — куда деваться? А тут стрелка и выручит: как прилежный ученик знает четыре правила арифметики, так и стрелка помнит четыре стороны света. Вот так игрушечка!
— А что? У нас так и молвят, — сказал Мишенька. — В море стрелка не безделка. «Маткой» зовут.
— Поди ж ты… «матка». Послушай, давай меняться. Ты мне «матку», я тебе рюхи.
— Бери так. Я у дяди попрошу — другой даст. Я ему воды привез с Ледовитого океана. Интерес у него до этой воды: отчего горькая, отчего соленая.
— Знатель он?
— Науки изучает, сочинения пишет.
— Кто таков?
— Мой дядька? Ломоносов…
— Не врешь?
— А чего врать? Дядька и дядька. Он меня в столицу призвал…
3В последние годы своей жизни Михаил Васильевич Ломоносов тяжело хворал. Пухли ноги. По фруктовому саду, прилегающему к особняку, ходил неторопливо, с палочкой. Высматривал, где кусты подстричь, где прививку сделать.
Особняк с пятнадцатью окнами по фасаду хорошо знали земляки. Приедут поморы в столицу по торговым делам — непременно к Михайле Васильевичу. Отведай, Михайла Васильич, северного угощения! Вот морошка, вот копченая семужка своего посола, вот шанежки. Шанежки особо любил, это северяне знали.
Холмогорским гостям Ломоносов всегда рад.
— Сказывайте про жизнь.
— Наша жизнь, Михайла Василич, тебе известная. Рыбкой промышляем. В прошлом году ржи уродилось с одного посеянного пять четвериков. Угóлья жжем, смолку выганиваем. Смолка ныне в цене. Флот, он все новыми бригами произрастает. А сейчас какие три фрегата на верфи одеваются! К Груманту, говорят, пойдут.
— Знаю. Чичаговскую экспедицию готовим…
— Ты-то как?
— А в заботах.
— Все об науке хлопочешь?
Земляки не засиживаются. Больно занят Ломоносов, грех его дорогое время отнимать. Сказывали, сама царица к нему приезжала. Вельможи посещают. Курят пеньковые трубки, пьют кофий.