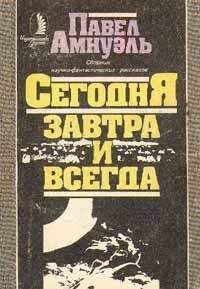Валерий Кормилицын - Держава (том первый)
Утешая душу, в синей дали моря, бороздил воду тяжёлый броненосец «Двенадцать Апостолов».
«Славно! — морщась от боли, думал император. — Мы восстановили Черноморский флот и поставили Россию в один ряд с мировыми флотами. Верфи Петербурга и Николаева спустили на воду сто четырнадцать новых военных судов и среди них семнадцать таких вот ладных игрушечек», — гордо окинул взглядом «Двенадцать Апостолов», который нещадно дымя, проплыл перед царскими очами.
Император жадно втянул воздух носом, с удовольствием ощущая запах плохо перегоревших углей.
«Эх! Мать его в якорь ети! Сейчас бы туда!» — с завистью глянул вслед броненосцу.
Ему льстило, что весь боцманат флота российского учился витиеватому морскому мату у своего государя.
«Поначалу–то боцманки краснели, — улыбнулся он, — но затем пообвыкли. На флоте даже ходило выражение: «Обложить по–александровски». Славно! Всё было славно… Но жаль, что БЫЛО!!! — заворочался на показавшемся неуютном, мягком кресле. — Сейчас бы на корабль!»
— Сашка, врача позвать? — отвлекла мужа от раздумий Мария Фёдоровна.
— Нет, не надо, — отрицательно покачал головой, с любовью окидывая взглядом невысокую фигурку жены, заботливо поправлявшую плед в его ногах.
По характеру император был мирным, семейным, простым человеком, очень религиозным и справедливым.
Лучшим другом его и собутыльником являлся начальник охраны Пётр Черевин.
— Лучше Петьку позови, — улыбнулся жене.
— Не нужен тебе никакой Петька, — поцеловала в лоб мужа, окатив его волной духов, персиков и женщины.
«Не хуже углей запах», — мысленно улыбнулся он, а в слух сказал:
— Я люблю тебя, — и с трудом выпростав из–под пледа похудевшую свою руку, когда–то запросто сгибавшую серебряный рубль, а теперь беспомощную и слабую, нежно взял маленькую, но крепкую ладошку жены.
Императрица всхлипнула, но быстро поборола себя, проглотив спазм в горле и нагнувшись, коснулась губами такой родной, некогда мощной, и в то же время нежной и ласковой ладони мужа, вспомнив, как однажды за обедом, австрийский посол отговаривал русского императора помогать Болгарии.
— А то Австрия может мобилизовать три армейских корпуса, — произнёс посол и глаза его в страхе замерли на руках Александра, без напряжения намотавшего на палец серебряную вилку.
— Вот что я сделаю с вашими корпусами.
Разумеется, ничего мобилизовывать австрийцы не стали.
Велев принести второе кресло, Мария Фёдоровна расположилась рядом, положив на колени вязание, дабы успокоиться и хоть на время забыть о болезни.
— Сашка, а помнишь последний Императорский бал в Зимнем? Ах, как я танцевала, — зажмурила глаза от удовольствия и напомнила Александру маленькую, уютную, пушистую кошечку.
Он радовался радости жены, и хотя ненавидел балы, но чтоб подыграть ей, с одышкой прохрипел:
— Я весь бал любовался тобой.
— А–а–а! Медведь ты этакий, а сам просидел в уголочке на стуле и даже не станцевал со мной. Ой, Сашка, — всплеснула она руками, и сердце его счастливо замерло от этого её непосредственного жеста. — Зато ты не заметил из своей берлоги, как графиня Быстрицкая потеряла нижнюю юбку и всю кадриль она путалась под ногами, пока Петька Черевин не убрал её.
— Ха! А мне этот пьяный хрыч хвастался, что взял на память у любовницы.
— И вы ей водку занюхивали, свои дурацкие «гвардейские тычки», — радуясь веселью мужа, поддержала она шутку. — Только жалко, что свет во дворце погас, я так и не натанцевалась.
— Так это я пробки выкрутил, — развеселился император, — а то бы бал трое суток продолжался.
— Ах ты, разбойник коронованный, — сделала вид, что лупит его кулачками. — Сашка, а как замечательно ты пыхтел на своём фаготе, — вновь зажмурила глаза.
— Ох, Дагмара!.. — совсем взбодрился Александр.
— Я больше не Дагмара, а Мария Фёдоровна.
— Дагмарка ты Датская, — подтрунил над женой император.
— А ты медведь Российский, — с любовью произнесла она, подумав, что счастливо прожила с этим гигантом жизнь, родив ему шестерых детей: Николая, Александра, Георгия, Михаила, Ксению, и Олечку.
Это она внушала русскому самодержцу ненависть к Германии, отнявшей в 1864 году от владений датской короны герцогства Шлезвиг и Гольштейн. Всю жизнь не могла она простить этого гансам. И под влиянием супруги, впервые в России не давали ходу людям с немецкими фамилиями, ставя на высокие посты коренных русаков.
Кроме жены, приложил к этому руку и голову воспитатель царя — Константин Петрович Победоносцев. Это он привил тогда ещё цесаревичу, глубокую православную веру, любовь ко всему русскому и симпатию к славянофилам.
Дело дошло до того, что в конце шестидесятых годов, по поводу возникших отношений с Аксаковым, Победоносцев с наследником попали в число неблагонадёжных лиц, находящихся под подозрением у шефа жандармов Шувалова.
Этот момент потом всегда веселил Александра.
Став императором, в первую очередь он переобмундировал армию на русский лад, одев солдат в удобную гимнастёрку, а офицеров в шаровары, сапоги бутылками и шинели с двумя рядами пуговиц.
— Ох, Сашка, но вот что хочешь делай, не нравится мне наша невестка, эта Алиса Гессенская. Наш бедный Ники всю жизнь будет мучиться под её немецким каблуком. Лучше бы это была графиня Елена Парижская, ведь отец её, в прошлом герцог Орлеанский, ещё претендует на французский престол, или дочь герцога Коннаутского, да мало ли прекрасных принцесс, но наш сын выбрал эту фрау…
— В тебе, Дагмарочка, говорит ум обиженной матери, у которой уводят сына. Любая невестка не пришлась бы тебе по нраву, даже греческая королева… Нет у меня времени… Алиска только тем мне нравится, что высокая, — с любовью посмотрел на маленькую жену, — хоть внуки мои, в отличии от сына[1], будут рослые.
«К огромному сожалению, я их не увижу», — вздохнул император.
— Да, мой господин, — шутливо склонила перед мужем голову императрица, — теперь они помолвлены.
— Ну, коли помолвлены, — властным голосом произнёс Александр, — то пусть едет к нам за благословлением, — повелел он.
На какое–то время русскому императору стало легче. Появился аппетит и выглядел он намного бодрее. Сидя в своём любимом кресле, Александр предавался раздумьям или изредка общался с приятелями, коих у него было очень немного.
Да и откуда у самодержца приятели?!
Одним из таких являлся генерал Пётр Черевин. Старинный и проверенный собутыльник царя.
Друзья или молчали, или предавались воспоминаниям, так как настоящего у императора почти не было. Всё лучшее осталось в прошлом.
— Эх, Петька, сейчас бы хоть один «гвардейский тычок», — мечтал Александр. — Ты–то, поди, уже с десяток сегодня принял? — завидовал своему начальнику охраны.
— Тружусь на износ! — посетовал тот. — Оберегаю особу государя.
— Слушай, Петька, а может у тебя и сейчас чего–нибудь в голенище припряталось? — с опаской покрутил головой российский самодержец — нет ли поблизости супруги.
— Ваше величество, вы же немного прибаливаете, — отказывался Черевин.
— Давай, давай пока Машка не видит, — сглатывал счастливую слюну, — всё равно помирать, — с вожделением глядел, как из сапога телохранителя появляется плоская фляга с коньяком.
Через некоторое время друзья блаженно вглядывались в необъятную даль такого синего Чёрного моря.
— Как по–твоему, Петька, хитра голь на выдумки? — катал во рту виноградинку царь.
— Очень хитра, Ваше величество, — напустив морщины раздумья, отвечал Черевин.
Потом глубокомысленно помолчали.
— Всё–таки, Ваше величество, мы с вами не дураки! — пришёл к выводу начальник охраны.
— Нет, Петька, не дураки, — через некоторое время, сжевав виноградину, соглашался император.
С кем и расслабиться, как не с другом.
Правда, бдительная Мария Фёдоровна тут же прогоняла красноносого генерала.
С большим уважением она относилась к другому приятелю монарха, его боевому товарищу Максиму Рубанову. Ей нравился этот высокий и стройный светловолосый мужчина с голубыми глазами. Она любила танцевать с ним на балах, ей нравились его шутки и остроумная беседа, нравилось, что он вовремя мог сказать комплимент.
Прощаясь, императрица всегда благосклонно протягивала руку для поцелуя Свиты Его Величества генерал–майору Рубанову.
Вот и сейчас, сменив Черевина, он увлечённо беседовал с императором о последней русско–турецкой кампании.
— А как славно Ваше величество, мы провели форсирование Дуная в июне 1877 года. Так славно и тихо, что неприятель ничего не слышал. Ровно в полночь плоты и паромы отвалили от берега…
— Издалека всё выглядит славно, — перебил его государь, — а на середине Дуная течением и ветром плоты стало сносить, потому и высадка произошла не одновременно всеми силами. Турки успели занять крутые берега Дуная, и нам не сладко пришлось, — в волнении замолчал он, вспоминая дни далёкой молодости, когда ещё не был императором.



![Антон Волков - Битва за Свет [СИ]](/uploads/posts/books/272911/272911.jpg)