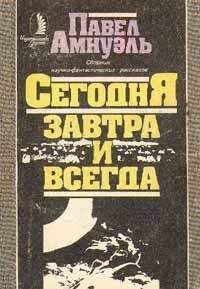Валерий Кормилицын - Держава (том первый)
Барчуки взрослого юмора пока не понимали, и пошли к двум пацанам примерно их возраста, трескающим одну за другой хрустящие кочерыжки.
Одна из женщин, обтерев о фартук руки, протянула по кочерыжке юным господам.
— Как зовут? — хрустя сочным подарком, поинтересовался Глеб у невысокого рыженького паренька. — А–а–а! — узнал он недавно тонувшего моряка. — Это не в твой корабль капусту рубят? Чего молчишь?
— Васятка, — шмыгнув курносым носом, с обидой произнёс паренёк.
— Васятка, станцуй вприсядку, — презрительно отошёл от него Глеб.
Обратно ехали тихим шагом, так как барыня, ткнув предварительно кучера зонтом в спину, укоризненно сказала:
— Ты, Ефимка, так не гони, не на ипподроме находишься.
«Госпожа, а как матюжится», — изумился кучер, и всю дальнейшую дорогу размышлял, на ком же это он, по разумению барыни, находится.
Вечером Аким снова стоял перед портретами своих пращуров, и с грустью убеждался, что ни на одного из них не похож.
«Все они светловолосы, а я волосом чёрен, и глаза у них голубые, а у меня тёмные. Вот Глеб в них, — позавидовал брату, — а я в матушку…».
Но грусть эта была недолгой. Всё равно они его предки. И он тоже Рубанов, к тому же — первенец, и носит имя Аким, а не какое–то там — Глеб.
И опять уютно тикали напольные часы, матушка играла на рояле. Горел камин. Брат возился с собаками. И когда одна из борзых подошла к креслу, где сидел Аким, и дружелюбно потёрлась о ногу, он вдруг понял, что вот оно — счастье, и с трудом удержал слёзы, повернувшись к стене и разглядывая блики огня на ней.
Всю свою жизнь будет он вспоминать тепло и уют домашнего очага…
Утром их разбудили рано.
По крыше барабанил дождь, и Акиму так не хотелось выходить в сырость улицы.
Глеб же, напротив, с нетерпением ожидал отьезда, приготовившись к нему ещё со вчерашнего вечера. Он был счастлив, что ехать в ландо придётся до самого уездного города, а оттуда, по железной дороге, до Петербурга.
— Ирина Аркадьевна велели одеваться теплее, — проверяла, застёгнуты ли все пуговицы на их пальто, гувернантка.
Перед парадным подъездом выстроились в ряд четыре экипажа. В один грузились вещи, в другой, весело толкаясь, две горничных. Швейцар и старичок–лакей в третьем. В напоминающем карету ландо с кожаным верхом, провожаемые нянькой и оставшейся прислугой, помолившись перед дорогой, разместились господа с гувернанткой.
Дождь разошёлся не на шутку.
— Это к добру! — кричала вслед старая нянька, прощально взмахивая рукой, а другой, стирая с морщинистого лица слёзы и капли дождя.
Ехали медленно, разбрызгивая колёсами грязь. Хмурые, серые тучи висели низко над землёй.
Рубановка встретила их унылыми от дождя домами, почерневшими мокрыми плетнями и выглядывающим из–под плаща старостой, стоявшим возле своего дома, на краю грязной дороги. Двумя руками он вцепился в плащ и, прощаясь, по–лошадиному тряс головой, развеселив этим Глеба до коликов в животе.
Аким же наблюдал за одиноким прохожим, пересекавшим дорогу. Поскользнувшись, и не успев зацепиться рукой за плетень, тот грохнулся в жидкую грязь колеи.
«Спасибо, Глеб не увидел, — подумал Аким, — а то ржал бы до самого Петербурга».
Вскоре проехали Рубановку, протарахтели по расшатанному мостику, отделяющему рубановские наделы от чернавских, и покатили дальше, провожаемые каплями дождя и криками галок на пашне.
Было печально и пусто.
Люди попрятались от непогоды в тёплые дома. Лишь изредка попадались лошади, со спутанными передними ногами, да грязные телята, привязанные длинной верёвкой к колышку и щипавшие травку на зеленях.
Подъезжая к уездному городу, на пересечении дорог у полосатого верстового столба, чуть не столкнулись со встречной двуместной коляской, из которой выпорхнула молодая особа, долго обнимавшая и целовавшая Ирину Аркадьевну.
Всю дальнейшую дорогу до самой станции, подняв вуальку, барыня прикладывала батистовый платочек к влажным глазам.
Станция была небольшая и мокрая.
На запасном пути, у насыпи с бревном, выполняющим роль шлагбаума, стоял разбитый товарный вагон. Дождь кончился и словно по команде из вагона вылетели куры во главе с цветастым петухом, и стали что–то выискивать рядом с рельсами. Иногда петух, обнаружив, на его взгляд, прекрасное стёклышко или сочного красного червяка, громко кудахтал, созывая клушек, и плотоядно склёвывал находку на их глазах, когда те слишком близко подбегали. Разочарованные клуши тоскливо расходились в разные стороны, ругая
на курином языке своего повелителя, но через некоторое время, растопырив для скорости крылья, вновь мчались на его зов, чтобы с тоской понаблюдать, как их господин проглотит очередную вкуснятину.
Глеб с интересом наблюдал за куриной жизнью, восторженно улыбаясь, когда петух, разозлившись на одну из своих жён, набрасывался на неё, хватал за гребень и давал ей взбучку.
— Вот так командира не слушаться! — обращался он к мадемуазель Камилле, на что та краснела, стыдливо отводя глаза в сторону.
Акима пернатые не интересовали. Он наблюдал за жандармом в тугом синем мундире, а тот, в свою очередь, заинтересованно следил за их гувернанткой. И когда мадемуазель Камилла отворачивалась от петуха в сторону жандарма, он молодцевато выпячивал грудь, важно хлопал по кобуре и мечтал, чтобы кто–нибудь нарушил порядок.
Но к его сожалению, кроме петуха, все соблюдали приличия и законность.
Ирина Аркадьевна, возглавляя свиту, состоящую из двух горничных и швейцара, направилась к зданию вокзала за билетами, оставив старичка–лакея сторожить вещи.
Удобно подрёмывая на огромном бауле, он встряхивался, когда гремя шпорами и заложив руки за спину, рядом шествовал жандарм.
«Ишь, растопался, сукин кот, — делая вид, что дремлет, следил за ним старичок, — чичас только отвернись, враз чего–нибудь слямзит, сельдь околотошная».
Где–то вдали раздался приглушённый гудок паровоза и в ту же минуту ребята увидели, как из здания вокзала показалась их матушка во главе своей свиты.
Жандарм на всякий случай вытянулся и отдал ей честь.
Свита кинулась к вещам, уронив с баула старичка–лакея, но Глеб этого не видел.
«Не везёт сегодня парню», — пожалел его брат, наблюдая, как старичок–лакей, подпрыгивая от азарта, чего–то обьясняет улыбающемуся толстозадому швейцару.
Ещё раз прогудев, из–за поворота появился паровоз, таща за собой хвост разноцветных вагонов.
Свита, распределив кому что тащить, толпилась вдоль платформы. Ехать им предстояло во втором классе.
Барыня с детьми и гувернанткой разместились в вагоне первого класса.
Швейцар, принёсший в купе корзинки и пакеты с пирожками, жареными курами и прочей снедью, объяснял гувернантке, что надо есть в первую очередь, а что может и полежать.
Братья, сидя у окна по обеим сторонам столика, наблюдали, как поддерживая друг друга, на платформе появились затрапезно одетый сторож в видавшей виды кепке, и начальник вокзала в фуражке и железнодорожной форме.
Расцепившись и лязгнув зубами, они разошлись в разные стороны.
Сторож, вытянув руки вперёд и пошатываясь, пошёл ловить колокол, а его начальник начал шарить по карманам нащупывая свисток.
Жандарм неодобрительно хмурился на друзей, а потом отвернулся в сторону города.
Больше из этого Богом забытого городишки никто не уезжал. Платформа была пуста.
Наконец сторож добрался до колокола, и чуть не сорвав его, дёрнул за верёвочку с грузом.
Раздавшийся звук его явно не удовлетворил. Почертыхавшись, он снял кепку, и снова дёрнул за верёвку. На этот раз колокол блямкнул громче.
Начальник, наконец, нашёл свой свисток, и они вместе сним стали искать рот, попадая всё больше в нос или щёки.
Сторож, в сердцах бросив кепчонку на брусчатку платформы, яростно топтал её, справедливо полагая, что во всём виноват головной убор. После проделанных физических упражнений он взбодрился, крепкой уже рукой взялся за верёвку и платформу потряс громкий удар колокола. Блаженная улыбка осветила его помятое лицо.
В это время свисток нашёл рот, и начальник вокзала задребезжал губами, разбрызгивая слюну. Сосредоточившись, он произвёл вторую попытку, издав такой разбойный свист, что жандарм вздрогнул и схватился за кобуру.
Чуть потише свистка загудел паровоз, и состав тронулся.
Аким открыл дверь купе и подбежал к другому окну, успев заметить, как из товарняка выглядывает петух, намереваясь выпрыгнуть и показать своей своре баб, какой у него прекрасный аппетит.
____________________________________________
Россия пила и работала, смеялась и плакала, веселилась и горевала, а в Ливадии умирал русский царь…
Лучший из русских царей.
Поверженный гигант сидел в кресле на террасе Малого дворца и тяжело вдыхал тёплый воздух, пахнувший то морем, то виноградом.
Утешая душу, в синей дали моря, бороздил воду тяжёлый броненосец «Двенадцать Апостолов».



![Антон Волков - Битва за Свет [СИ]](/uploads/posts/books/272911/272911.jpg)