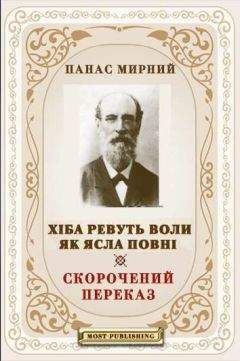Василий Балябин - Забайкальцы (роман в трех книгах)
— Ай да дед Ерема! — густым басом рокотал Анциферов, размахивая радужной трехрублевкой. — Видали, какую сумму отвалил? Вот как наши делают! А ну, ребятки, за такое дело качнем его еще разок!
И, подхваченный десятком рук, дед Ерема вторично несколько раз плавно взлетел на воздух.
Задетый за живое, Лыков, проклиная в душе деда Ерему, извлек из-за пазухи кисет, и, когда качнули его казаки, в папаху Анциферова вместе с рублем полетела новенькая пятирублевка.
Пришлось порастрясти свои кошельки и другим богачам — никому не хотелось ударить в грязь лицом перед обществом, и, когда перекачали всех стариков, в папахе Анциферова собралась порядочная сумма. Деньги пересчитывали втроем: Анциферов, Козырь и Дремин.
— Двадцать восемь рублей пятьдесят копеек! — радостно объявил Анциферов, укладывая деньги в боковой карман шинели. — Живем, братцы, дня на два хватит гулять всем!
Толпа ответила радостным гулом, и тут же договорились всем скопом отправиться к торговщице водкой Ермиловне.
Молодые казаки откололись от стариков, выторговав себе отступные— на орехи пять рублей. Они смешались с толпой парней и девок. Идти с казаками отказался и Уваров. Взяв у Анциферова свою трехрублевку, он присоединился к богачам и отправился с ними догуливать к атаману. Остальные человек сорок казаков под командой Дремина строем двинулись к Ермиловне. За ними потянулось с десяток дедов и любопытные до всего ребятишки.
— Ать, два, три, с левой! — звонко подсчитывал топающий рядом Дремин. — А ну-ка, шаг под песню ре… же, ать, два! Сорокин! Запевай.
Козырь подкрутил усы, прокашлялся. Советуясь, какую запеть, он повернулся к идущим в задних рядах, сбился с ноги, но быстро исправился, ловко хлопнув правым сапогом о левый, снова «взял ногу», запел:
Уж ты, зи-и-мушка, зима,
Ээ, да холодна очень была!
Казак, шагающий рядом с Козырем, заложил два пальца в рот и, как только запевала кончил, лихо, пронзительно свистнул. Все хором грянули припев:
Э-э-э-эй, э-э-э-эй,
Эха-ха-хо-эх, да
Холодна очень была!
Заморо-о-озила меня, —
запевал Козырь. —
Эх, да казаченьку бравого…
И снова хор подхватил, понес как на крыльях разудалый припев:
Э-э-э-эй, э-э-э-эй.
Эха-ха-хо-эх, да
Казаченьку бравого,
Казаченьку бравого,
Русого, кудрявого.
Э-э-э-эй, э-э-э-эй,
Эха-ха-хо-эх, да
Русого, кудрявого.
От середины улицы широкий переулок. Тут уж рукой подать до Ермиловны, по нему и отправились деды, но казаки решили хоть и сделать препорядочный крюк, но пройти по двум улицам до конца. Парад бывает раз в год, к тому же отовсюду из оград, из окон домов на них любуются сельчане, бабы. И не беда, что полуденное солнце растопило снег, повсюду лужи, ручьи, а они месят грязь серединой улицы и в такт песне так топают сапогами, что талый, пропитанный водой снег ошметками разлетается по сторонам, грязня полы шинелей.
Песни хватило до конца улицы. На вторую, минуя огороды, кучи навоза, переходили молча — берегли голос. В начале улицы Дремин выровнял ряды и, подсчитывая шаг, предложил спеть что-нибудь повеселее.
— Валяй, Игнат, про Аннушку, — пробасил Анциферов. — Веселая песня.
— «Аннушку», «Аннушку» запевай! — кричали отовсюду.
— Ладно, — согласился Козырь, разглаживая усы. Будучи большим выдумщиком, он озорства ради ввернул в текст песни вместо Аннушки Ермиловну.
На окраине села
Там Ермиловна жила.
Хохот покрыл последние слова запевки.
— Хо-хо-хо, с-с-сукин сын!
— Ох и черт, холера тебя забери!
А Козырь, выждав, когда хохот пошел на убыль, продолжал:
Свет, Ермиловна душа,
До чего ж ты хороша!
Снова хохот. Козырь, оглядываясь на задних, деланно сердитым голосом прикрикнул:
— Чего заржали, жеребцы, язвило бы вас! Я что, вам для смеху запеваю? Давайте припевать, а то и зачинать не буду!
О-о-на думала-гадала,
Полюбить кого, не знала.
На этот раз все дружно, с уханьем и залихватским присвистом подхватили:
Ай люли, люли, люли,
Полюбить кого, не знала.
Этой песни также хватило на всю улицу. В ней говорилось о том, как девушка выбирала, кого ей лучше полюбить — барина, купца, поповского сына или офицера! Но все они оказывались неподходящими, с пороками, и уже на виду избы Ермиловны песню закончили советом полюбить простого казака.
Полюби ты казака
Из Аргунского полка.
Он богатства не имеет,
Да горячо, любить умеет.
С казаком тебе, душа,
Жизни будет хороша.
Вдова Ермиловна жила на краю села. Хозяйства она никакого не имела и кормилась тем, что поторговывала контрабандным спиртом, делая из него водку, а в ее старой, но очень просторной избе парни устраивали вечерки.
Деды уже сидели на скамьях в переднем углу, когда в избу ввалилась шумная, говорливая толпа казаков.
— Здравствуй, Ермиловна! Здравствуй! — на разные лады приветствовали они хозяйку.
— Здорово, кума!
— Здоровенькую видеть!
— Доброго здоровьица, Ермиловна, принимай гостей!
— Здравствуйте, гостюшки дорогие, проходите, с праздником вас, — любезно раскланивалась с гостями хозяйка, толстая, но очень подвижная казачка в пестром ситцевом сарафане и в розовом с голубыми цветочками платке. К празднику она подготовилась неплохо: на столе вмиг появилось целое ведро водки, миски с вареной картошкой, с квашеной капустой и полное решето пшеничных калачей.
Казаки, не снимая ни шашек, ни шинелей, усаживались на скамьи, на ящики и доски, положенные на табуретки.
Дремин ковшиком разливал водку по стаканам, Ермиловна проворно ставила их на поднос, обносила гостей, приглашая к столу, закусить, чем бог послал. Анциферов, приняв на себя роль кассира-эконома, писал прямо на стене осиновым углем: «Расхот взято видро вотки 4 рубля, хлеба и прочево на 1 рупь 50 коп., а всиво на 5 рублей 50 коп.».
После первого стакана заговорили, после второго разговоры усилились, слились в такой разноголосый гул, что понять, кто и что говорит, стало невозможно. После третьего стакана кто-то из стариков затянул песню:
Поехал казак на чужби-и-ну дале-еко
На добро-ом ко-оне он своем вороно-ом…
И все разом подхватили:
О-о-он свою родину навеки поки-и-инул,
Ему не верну-у-уться в отеческий дом.
Напрасно казачка его молодая
И утром и вечером вдаль все глядит,
Все ждет, поджидает с далекого края,
Когда же к ней милый казак прилетит.
Пели все: казаки, деды, высоким тенором заливался Козырь, в лад басил Анциферов, тоненько подтягивала, подперев рукой щеку, Ермиловна.
После того как спели еще одну старинную песню, Дремин завел плясовую, на мотив украинского гопака:
Я в лесу дрова рубил,
Рукавицы позабыл…
И все хором подхватили:
Топор и рукавицы,
Рукавицы и топор,
Рукавицы-вицы-вицы,
Жена мужа не боится,
То… пор и рукавицы,
Рукавицы и топор.
В такт песне притопывали сапогами, хлопали ладонями. Один из казаков постукивал концом шашки по пустому ведру. Анциферов тузил кулаком печную заслонку, а Дремин тремя ложками чудесно выбивал дробь.
Как и следовало ожидать, первым пустился в пляс мастер на все руки Козырь. Ермиловна тоже не утерпела: сложив под пышной грудью руки, слегка покачивая полным станом, она плавно, лебедушкой пошла по кругу. Козырь ухнул и, держа левой рукой шашку, чтоб не мешала, пустился вприсядку. Плясал он с таким заражающим задором, что все вокруг задвигались, заулыбались и в круг, сменяя один другого, выскакивали новые плясуны. Лицо Козыря покрылось крупными каплями пота, даже воротник шинели взмок, а он плясал и плясал не переставая, наконец широкоплечий казачина Усачев облапил его сзади и, оттащив от круга, усадил на скамью.
Солнце склонилось низко над горизонтом, наступал вечер, а гулянка в избе Ермиловны становилась все более широкой, разухабистой. На стене появилась уже третья запись Анциферова: «Ишо взято видро вотки и на рупь калачиков, а всиво забору на 14 рублей 15 коп.». Многие так набрались, что еле держались на ногах, кто-то крепко спал под скамьей, чьи-то ноги торчали из-под стола. Дед Ерема, положив плешивую голову на край стола, тоненько похрапывал. Три деда медленно, по стенке пробирались к дверям. Очутившись в ограде, все трое обнялись и, еле двигая отяжелевшими ногами, тронулись со двора восвояси.