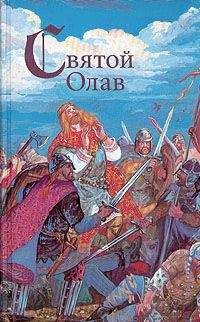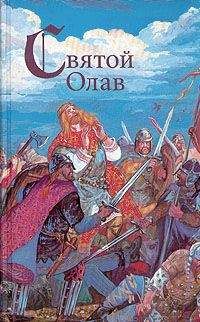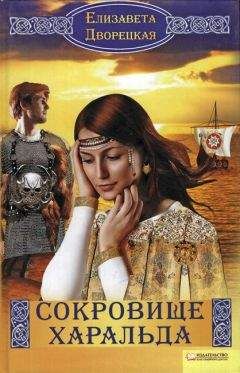Михайло Старицкий - РУИНА
Проводив своих тайных гостей, Самойлович возвратился к себе и несколько раз прошелся в волнении по комнате.
Известие о том, что Ханенковых послов схватил Дорошенко, сильно взволновало его, но приход трех старшин привел его в такое радужное настроение духа, что даже заставил забыть это неприятное обстоятельство.
Да, теперь он будет действовать уверенно. К нему пришли, значит, нуждаются в его совете, верят в него. А пан генеральный обозный хочет прийти последним, на готовенькое. Гм! гм! — Самойлович усмехнулся, — прийти первому опасно, но и последним явиться тоже разница большая, можно опоздать и оказаться лишним… Хе, хе! Ну, пусть себе хитрит, ему, Самойловичу, от этого убыли не будет. На Домонтовича и на Думитрашку можно рассчитывать больше, чем на самого себя. Мокриевич? — Самойлович прищурился и глянул куда-то в сторону: по лицу его пробежала насмешливая улыбка. — А что ж, и таких нельзя цураться; для торговли нужно и серебро, и золото, и медные гроши.
Час шел за часом; дождь лил с неба непрерывными холодными потоками; усыпленные его мерным шумом, мирно почивали батуринские жители, а пан генеральный судья Самойлович все еще расхаживал в волнении по своему покою, но никто бы не мог и предположить того, какие честолюбивые помыслы росли и шевелились в его голове.
На другой день пан судья проснулся и почувствовал себя плохо; послал за ворожкой; ворожка пошептала, дала какого-то зелья, но лучше не стало. Дня два провел судья в постели, жалуясь на невыносимые боли; кто-то посоветовал ему отслужить молебен, отслужили молебен, но и это не принесло ожидаемого облегчения. Слух о болезни Самойловича разнесся по Батурину и дошел до самого гетмана. Гетман, всегда расположенный к Самойловичу за его ум, образование, начитанность и уменье держать себя с ним, послал к Самойловичу справиться об его здоровье.
Перебирая с посланцем гетманским все причины своей болезни, Самойлович вспомнил вдруг, что он года два назад дал обет пожертвовать новые ризы на запорожскую церковь, если Бог избавит его от таких же страданий, но обета своего не исполнил; должно быть, в наказание за это и послал на него Господь новую болезнь.
Посланец посоветовал Самойловичу исполнить данный обет. Эта мысль очень оживила больного, он просил посланца узнать у гетмана, разрешит ли он ему отправить обещанный дар в Сечь. Многогрешному чрезвычайно понравилось такое предложение генерального судьи, а потому он немедленно же прислал к нему гонца с известием, что гетман ничего не имеет против этого.
Тотчас же пан генеральный судья повелел готовить казаков для отправления на Запорожскую Сечь; кроме обещанных риз, были приготовлены большие дары всей запорожской старшине и более влиятельным запорожцам; скупой и алчный генеральный судья на этот раз не жалел ничего и в заключение приложил еще сто червонцев на мед запорожской гол оте. Отправляя гонца, Самойлович велел передать тому или другому запорожцу поклоны и приветствия и среди других новостей сообщил, что ханенковских послов до сих пор нет в Остроге и доподлинно известно, что они перехвачены казаками Дорошенко. Эту новость Самойлович повторил, словно нечаянно, раза три и затем отпустил гонца.
Уже окончив это дело, генеральный судья почувствовал сразу значительное облегчение, а через два дня после отъезда гонца он стал чувствовать себя совсем хорошо. Однако, несмотря на видимо благоприятствовавшие Самойловичу обстоятельства, сердце его точил червяк. Горголи все не было, и Самойлович должен был прийти наконец к заключению, что Горголя погиб. Между тем дела с каждым днем осложнялись все больше и больше, и наконец пришло такое известие, которое поставило Самойловича в тупик.
Генеральный писарь Мокриевич сообщил ему тайком, что гетман получил из Москвы известие о том, что Ханенко посылал туда посольство с очень важным и лестным для Москвы предложением. Это совершенно озадачило Самойловича.
«Что ж это? Значит, Ханенко обратился к Москве. Может, и не посылал послов в Острог? Не думает ли подкопаться под Многогрешного? Может, в этом и заключается нежелание Многогрешного воевать с Дорошенком. Неужели же он, Самойлович, будет в конце концов одурачен!»
Пан генеральный судья с досадой отвергал эту мысль, но вместе с тем решительно не мог понять, в чем заключается тайная пружина всех этих непонятных для него действий? Однако оставаться в такую тревожную минуту в стороне, простым наблюдателем, было невозможно: так или иначе надо было действовать.
Самойлович решил отправить кого-нибудь на правый берег, здесь же он надеялся сам выпытать все у Многогрешного.
Однажды, когда генеральный судья сидел у себя и обдумывал, кого бы и как снарядить ему в Чигирин на разведки, в комнату вошел джура и объявил, что какой-то прохожий купец просится к ним на ночлег и спрашивает, не желает ли пан генеральный судья посмотреть его товары.
Самойлович оживился.
«Уж не Думитрашка ли? А может, и Мокриевич?» — пронеслось у него в голове.
— Веди, — приказал он казачку.
На дворе послышался громкий разговор, скрип открываемых ворот и звонкий лай собак. Самойлович подошел к окну, но сквозь густой мрак осенней ночи не видно было ничего.
Но вот на крыльце послышались тяжелые шаги, дверь хлопнула, затем шаги раздались еще ближе, двери отворились — и в них показалась коренастая фигура мужчины, согнувшаяся под тяжестью короба, за ним шел джура, поддерживая его тяжелую ношу. Купец опустил на пол свой короб и, отвесив глубокий поклон, остановился у дверей. Самойлович едва сдержал себя, чтобы не вскрикнуть от радости — перед ним стоял Горголя.
Произнесши две–три обычные фразы при джуре, он велел мнимому купцу показать свои товары.
Когда купец развязал свой короб и джура вышел из комнаты, Самойлович быстро подошел к купцу и произнес голосом, хриплым от сдерживаемого волнения:
— Горголя… ты? ты?!
— Я, — ответил с сияющей улыбкой Горголя, в котором бы теперь никто не узнал оборванного странника.
— Да где же ты скрывался? Где пропадал?
— Где пропадал?! Гм!.. Было нас повсюду, чуть было к дидьку на вечерницы не попали!
— Ну, постой, погоди. Рассказывай все… Узнал? Выпытал?
— Узнал столько, сколько и сам не ожидал… Ну, уж натерпелись лиха! Кажется, если бы и сам нечистый был на моем месте, так побелел бы от страху!
— Верь мне, не пожалеешь об этом, — произнес торопливо Самойлович. — А ее видел?
— Видел. Уж как упрятал Дорошенко, а я отыскал. Да тут-то и нагнали мне смертельного холоду чернички.
И Горголя передал Самойловичу подробно о том, как он узнал о местопребывании гетманши, как проник в монастырь, как добился свидания с нею, как обрадовалась гетманша, узнавши, что вестник привез ей привет от Самойловича.
Самойлович жадно слушал рассказ Горголи, несколько раз он вставал со стула и принимался в волнении шагать по комнате.
XXIX
— Так что же, согласилась ли Фрося перейти в Чигирин? — произнес Самойлович, когда Горголя рассказал ему о своей беседе с гетманшей.
— Да так видно было, что от одной думки о том, чтобы вернуться к Дорошенко, сердце у ее мосци разрывается, а все же рвется она, как малая пташка из клетки. А как узнала она, что ясновельможный пан женился (слыхала она о том, видимо, и раньше, только не верила), так уж в такую горесть пришла, что и у меня сердце перевернулось, — продолжал Горголя, — стал я ее утешать, успокаивать да рассказывать, для чего и как женился ясновельможный пан, но вот тут-то и случилась беда: только что разговорился, как бежит ко мне хлопчик мой и кричит, чтобы я спешил скорее из кельи, потому что уже зазвонили к заутрене. Вот я и поспешил. Только что успел сделать шагов этак с двадцать, как мне навстречу две чернички! Взглянули на меня да как закричат не своим голосом: «Мать Агафоклия!» Так и пустились с этими криками по всему монастырю бежать. Тут поднялся гвалт, бегут все, кричат, мы к воротам, а ворота заперты! Ну, думаю, пропал, конец! Холод у меня по всему телу пошел, ноги и руки словно не мои сделались, сдвинуться не могу, да малый мой выручил, толкнул в какую-то каморку. «Лежи, — говорит, — авось спасемся!»
Переоделся я, монашеское платье припрятал, сижу ни жив ни мертв. В монастыре, слышу, крик и шум все растут, все всполошились. — Горголя покачал головой и произнес со вздохом:
— Бывал я в переделках, а такого никогда не пробовал. Просто, слышу, уши у меня шевелиться начали, волосы подымаются… — Он провел в волнении рукой по лбу и продолжал: — Вдруг слышу шаги… идут… Ко мне, ко мне! Уж близко. Ну, думаю, смерть! Выхватил я нож, притаился в угол, жду, умирать так умирать, а уж хоть даром жизнь свою не отдам. Слышу, открываются двери, в глазах все помутилось, хотел было уже броситься, когда смотрю, а это он, малый мой! Ну, он рассказал мне, что в монастыре переполох, порешили все, что матери Агафоклии суждено, мол, за сильно строгое обращение с ее вельможностью по ночам вокруг ее келии бродить, а для того выходит весь монастырь соборне служить панихиду с водосвятием над могилой, тогда, мол, и я могу выйти из монастыря.