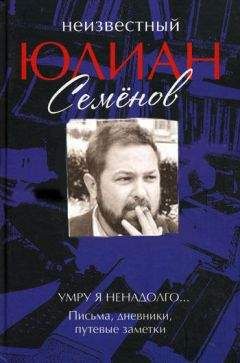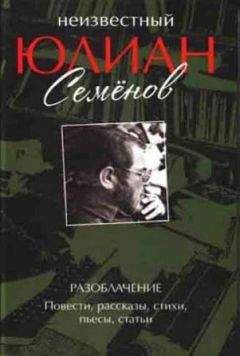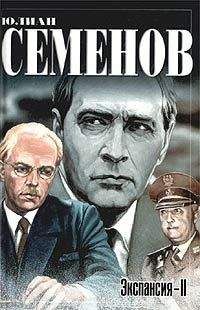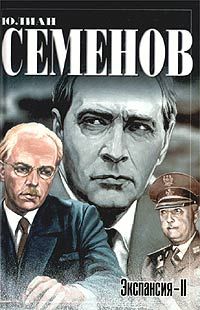Юрий Рудницкий - Сумерки
Братья обменялись взглядами, великий князь ударил кулаком по столу, схватил большую чару вина и весело крикнул:
— Вот так, князь Иван высказал именно то, о чём я сам думал, только гораздо лучше. Дело известное, учёный человек, не то, что я, воин, охотник, ну и… скажем, пьяница! Ха-ха-ха! Выпьем же за добрый мир и верный союз, на погибель шляхте!
И одним духом осушил чару.
Князья и Рутенберг последовали его примеру, и только Русдорф о чём-то молча думал. Потом медленно, нехотя, потянулся за чарой. Патер Анзельмус тем временем снова наполнил их и в ожидании, пока выпьет магистр, неторопливо повёл речь:
— Не надо колебаться, illustrissime[11], заключая союз с самым могучим государем Востока! От вас он ничего ие потребует, кроме военной помощи, да и то не бесплатной. Времена тяжёлые, кто не с нами, тот против нас, тут нет места тому, кто ни рыба ни мясо. Вам, наверно, известно, как горбатый и косоглазый еврей не хотел платить дорожную пошлину, установленную рыцарем с головы. Горбуна вытащили из носилок и поставили перед господином. Тот и говорит: «За то, что едешь по моей дороге, с тебя полагается грош, но ты не желаешь его платить. Однако я вижу, что ты еврей, а это стоит ещё один грош; столько же платят мне калеки за несогласие, ты заплатишь третий грош, а за горб четвёртый. Потому плати четыре гроша, если тебе одного было мало! Плати либо возвращайся домой!»
Долго ещё под звон серебряных чар велись переговоры между магистром и великим князем. Только под утро союз был заключён, князь захмелел окончательно, а патер Анзельмус в своей маленькой комнате башни над браной, подобрав полы, приплясывал вокруг стола, на котором красовалась изрядная куча серебра, и потирал руки…
XIII
На другой день по той же самой дороге, по которой ехал в Чарторыйск Свидригайло, не спеша трусил на маленькой литовской лошадёнке Грицько. Тёплый юго-западный ветер принёс оттепель. Совсем ещё недавно покрытый белой изморозью лес сразу потемнел, порыжел, дорога за ночь раскисла, и копыта лошади глубоко погружались в снеговую кашицу. Сильный ветер дул прямо в лицо, время от времени моросил дождь. Худших условий для путешествия и не придумаешь, однако путник не обращал на ненастье никакого внимания, словно его ограждала какая-то невидимая стена. Согнувшись в три погибели в седле, он равнодушно сносил и дождь, и ветер, и холод. Болтающаяся на его плечах рогатина, туго перевязанный колчан с луком и стрелами, намокший кожух и разорванные штаны придавали малорослому парню вид лесовика — разбойника или коланника, убегающего от боярской нагайки в лес.
Измождённое лицо парня выражало не только телесную усталость. Сдвинутые брови и глубокие морщины у губ говорили о душевных страданиях. Всадник то и дело поднимался в седле и оглядывал размокшую дорогу. Временами горькая улыбка пробегала по его устам.
И в самом деле. Утром ещё он был у великого князя с письмом от боярина Миколы. Ждал вопросов, хотел рассказать о необычайных успехах восстания, о верности, воодушевлении народа, о самопожертвовании боярина, но ждал напрасно. Свидригайло прочитал письмо и тут же дал ответ:
— Скажи боярину, что я жду к маю службы с его земель в Чернобылье. А ежели не принесёт повинной, отдам земли другому, не такому, кто поднимает на бунт мужиков по сёлам и учит их грабить и убивать!
Грицько хотел было что-то сказать, оправдать мужиков и боярина, искал слов, чтобы объяснить это, как ему казалось, недоразумение, но великий князь крикнул:
— Молчи, смерд, и слушай! Хам рождён для плуга и цепа, а не для меча. Предоставь военное дело боярам, не то и ты со своим боярином ответишь перед строгим великокняжьим судом. Воюющий мужик — разбойник, а разбойниками украшают придорожные ёлки да загородные виселицы. Непокорным же боярам рубят головы… Помни это и убирайся!
Потемнело на душе у мужика, слова князя засели в голове гвоздём, тщетно старался Грицько найти в них хотя бы намёк на сочувствие освободительному движению народа. Напротив, в поведении Свидригайла сквозили лишь гнев, злоба и ненависть ко всему тому, что не исходило от его собственной особы. Князь не понимал народа, а мужик не мог понять князя. «Почему он не запретит народу бороться со шляхтой, если он против? — спрашивал Грицько самого себя. — Почему не остановит Несвижских, Юршей, Рогатинских?»
Ответы на вопросы Грицько не находил и не мог найти, будучи уверен, что князь всегда знает, почему отдаёт тот или иной приказ и всегда думает о благе всего народа. И никогда бы не поверил, что поступками и велениями великого князя управляли не ум, а упрямство либо простая случайность.
Спустя три дня Грицько встретил мужиков, которые ожидали прибытия Свидригайла, всё ещё не веря, что он уже проехал. Задержав юношу, они принялись расспрашивать: кто он, куда едет и зачем? Услыхав, что Грицько из Чарторыйска, тотчас обступили его.
— Когда же князья собираются в поход? — спрашивали они наперебой. — А где же Свидригайло?
— В Чарторыйске.
— Врёшь, такой-сякой сын!
— Не вру! Я к нему как раз и ездил.
— Ты? А от кого?
— От таких же самых дурней, как и ты.
— Ого, какой умный нашёлся! По морде его! Палкой по спине! — послышались голоса, и руки, вооружённые дубинами и рогатинами, поднялись над головой Грицька. А он, словно это вовсе его не касалось, равнодушно оглядел толпу, потом сплюнул сквозь зубы и поднял руку.
— Заткните-ка, прошу покорно, свои неумытые хайла! — крикнул он. — И не берите греха на душу. Неужто, думаете, я вру, говоря, что еду от великого князя?
— Клянёшься крестом и землёй?
— Крестом и землёй.
Толпа мигом утихла, и вперёд выступил вожак.
— Что же ты говорил великому князю? — спросил он.
— Как раз о том, что хотели сказать вы: мы-де ждём его, как пришествия Христа.
— И он что на это?
— Он: что смерд годен лишь для того, для чего сотворил его бог, а не для оружия. Поняли?
В толпе недовольно загалдели. Вскоре послышались голоса:
— А куда же нас князь отряжает?
— Известное дело куда — к цепу да вилам, к плугу да навозу! И правильно: всяк сверчок знай свой шесток, а назвался груздем — полезай в кузов!
— Правильно, правильно! — послышались голоса. — Коли такова его княжья воля, то мы…
— Ну да! — подхватил кто-то другой. — Я сразу сказал, что проку не будет.
— Что верно, то верно!
— Не тягайся с панами, не дотянешь — бьют, перетянешь— тоже бьют! — закончил Грицько.
В толпе засмеялись.
— Ты сказывал князю, что мы наготове? А откуда ты? — неуверенно спросил опешивший вожак.
— Я? Из Подолии, и говорил ему как раз о том, что хотели сказать ему вы. И на это он ответил как раз то, что я вам передал. Вот так-то!
Толпа молчала.
— Здорово! — сказал угрюмо вожак. — Видать, мы ему не нужны. А мы-то мечемся, как угорелые кошки…
Товарищи молчали и грустно кивали головой.
— Не нужны, не нужны! — отзывалась толпа. — Мыто думали…
Какое-то мгновение Грицько смотрел на мужиков.
— Не горюйте, братцы, — сказал он наконец, — хоть князю вы и не нужны, но в вас нуждается земля, наша общая мать! Вы её обрабатываете, поливаете своим потом, она ваша…
— Не наша, не наша! — раздались в ответ голоса мужиков. — Княжья, боярская, а не наша. Потому они и хотят защищать её сами, что она ихняя, а нас не допускают. Дело ясное!
И вдруг Грицько понял Свидригайла. Великий князь велел мужикам бросить оружие, потому что боялся, потому что сила, прогнавшая со своей земли врага, возьмёт эту землю себе. Коли так, то холопам нечего было ждать от князя поддержки. И смутно стало на душе Грицька…
Всего себя он отдал борьбе подневольного люда, против панщины, своеволия и гнёта, как мог сделать это только мужик. За былые свободы, за давние обычаи и права. Но до сих пор он не понимал, что такое поражение неминуемо бросает мужиков в руки бояр, панов, вельмож, князей и что людям высшего стану только на руку новый порядок, обеспечивающий новые пожалования… Только теперь он вспомнил Кердеевича и прочих галицийских перевертней, вспомнил о жалованных западным боярам польских гербах и грамотах, в которых король предоставлял им такие же привилеи, как и шляхтичам, этим палачам и угнетателям простого люда. О том немало рассказывали покойный Василь Юрша, боярин Микола, Андрийко, но Грицько в те времена как-то не очень к ним прислушивался. И только сейчас понял, что Свидригайло и его сторонники если и желают свободы и независимости, то лишь для себя. Народа же они боятся, потому что борьба идёт между польским и литовско-русским рыцарством, идёт лишь за мужицкую шкуру. И Грицька охватило отчаяние.
В небольшом селе над Стырем, отбывающем повинность выпасать княжьих лошадей, он остановился в усадьбе конюха и прожил у него несколько дней. Конюх, довольный тем, что может потолковать с бывалым человеком, полностью подтвердил опасения Грицька. Князья Чарторыйские, рассказывал он, заранее предостерегли своих подданных в чужие дела не соваться и посланцев западных громад не слушать. «Великий князь сам, дескать, накажет шляхту и отберёт земли Витовта у польской Короны». Потом конюх рассказал, что княжьи ратники повесили в четырёх милях от Луцка двоих мужиков из Деревища за то, что те бежали к повстанцам на Холмщину.