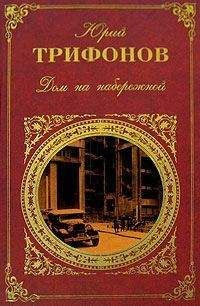Игорь Гергенрёдер - Донесённое от обиженных
Подождав, картинно вытянул руку с револьвером и, целя в дверной проём, выстрелил три раза. Сарай стали обвально расстреливать со всех сторон, пули учащённо-жадно садили в дерево, будто кто-то многорукий неистово забавлялся колотушками.
Потом предводитель подозвал одного из своих и почему-то шёпотом, на ухо, отдал ему приказание. Тот вёртко пополз к сараю, зашвырнул в него гранату и, вжавшись в снег, прикрыл голову руками. После взрыва от постройки потекли дым и пыль, тёмные клубы сверху медленно оседали внутрь.
К сараю кинулись переполненные нетерпением — но обнаружили там лишь размётанный мусор и нечистоты.
* * *Семён Кириллович добивался у предрика: что делается? Тот, с видом вконец заверченного тяготами, изнемогающе обнял инженера:
— Это не наши!
Лабинцов понял так, что «не наши» относится к конникам и к тем, кто был у пулемёта, и означает: красные, но не местные.
— Зачем на башкир таким враждебным образом? — спросил он, смягчая гнев.
Председатель с жалобой и досадой выдохнул ему в лицо:
— Ну как? ну как? Мы их от расправы уводим!
Подъезжали розвальни, запряжённые парой коньков, что заинели от кусачего мороза. В санях стоял, расставив ноги, возчик в тулупе, приземисто-прочный, как тумба, держал ременные пахучие вожжи. Подоспели ещё розвальни и ещё. Предрика, размахивая руками, приказывал башкирам «садиться». Поселковые с увлечённым видом подталкивали их к саням, потом человек пять завалилось в задние. Над передней парой лошадок взвился и разрывно щёлкнул махорчатый кнут, полозья круто вычертили полукруг на снегу — Семёна Кирилловича, застигнутого разворотом, чуть не сшибло запрягом.
Сани одни за другими уносились по заулку. Лабинцов спохватился, что нигде не стреляют, и перенял заспешившего было прочь председателя:
— Что — белые? Отбиты?
Тот не стоял на месте, глядя мимо и показывая, что его ждёт неотложное:
— Есть такое дело! — он побежал и смешался с уходившими поселковыми.
43
Поутру Лабинцов шёл в совет в состоянии мучительного умственного нытья. События ночи возбуждали саднящий пессимизм, будто Семён Кириллович заглядывал в сырой и тёмный ход. То, что довелось вскоре узнать, представило ему окружающую среду в образе взбаламученной стихии, где путаются кривые пути чужих соображений и поступков, чьи истоки пугают.
Оказалось, что таинственное стало завариваться в ночь первого визита делегации. Предрика и другие большевики, словно в посёлке стоял враг, конспиративно встретились в здании школы. Затем они отправились на телеграф, но не по улице, а дворами, перелезая через заборы. Позже об этом будут рассказывать с сурово и отчаянно загорающимися глазами: «Башкирская охрана могла патрулировать…» Охрана же в это время безмятежно почивала.
Коммунисты передали телеграфом в оренбургский губком всё, что знали о делегации и её планах. В губкоме помнили, как Баймак принял посланных за золотом, и двадцать минут аппарат молчал. Но вот лента побежала: «Всякое формирование автономного Башкурдистана является контрреволюционной националистической бандой. Появившийся в Оренбурге башкирский совет целиком арестован как безоговорочно контрреволюционный. Завтра получите приказ номер пять».
В губернском центре решили отложить вопрос о драгоценном металле — ввиду намечающегося подарочка: согласия Баймака с башкирами.
При телеграфисте по очереди дежурили поселковые большевики, пока не поступил обещанный приказ — «беспощадно бороться с зелёнознамёнными беломусульманскими бандами». В заключение аппарат отстучал: «…заслуга в обезвреживании будет высоко оценена». Это было то самое яблоко, что соблазняло предрика, обременённого заботой: как, не отдав золота, отвести карающую десницу.
Он телеграфировал, что для захвата банды сил нет, но предложил манёвр, не вызвавший возражений Оренбурга… Люди, что выехали в Орск с деньгами башкир, были секретно проинструктированы. Они закупили сто с лишним винтовок, тридцать тысяч патронов и отправились назад окольной дорогой. В глухой деревушке неподалёку от Баймака их поджидали оренбуржцы, что просочились сюда неприметно, порознь, чтобы не вспугнуть башкир.
Среди баймакского актива, наряду с лицами посвящёнными, которые знали всё, имелись и те, кому, опять же с наказом хранить тайну, было сообщено: на посёлок совершает рейд белопартизанский отряд. Он будет врасплох атакован красным полком. Задача поселковых дружинников — «в боевых условиях эвакуировать башкир».
В начале ночи, которую мы описали, более ста рабочих скрытно, малыми группками, вышли из посёлка и собрались на замёрзшем болоте, где уже сгружали подвезённые винтовки. Оренбуржцы разделили вооружившихся людей на четыре взвода, которые обложили свой же спящий Баймак и, по команде, стали пулять поверх крыш…
Последующее известно. Когда делегация была «эвакуирована», оренбуржцы, по уговору совета с губкомом, убыли, дабы своим присутствием не напоминать о распре из-за золотого резерва. Башкир, под охраной местных красногвардейцев, совет поместил в бараке на ближнем руднике.
* * *Семён Кириллович, которому не давали покоя эмоции идеалиста, чьё мировоззрение пошатывалось, проникал в душу среды, ища примирения с собой. Он говорил друзьям-рабочим:
— Приехала делегация с дружескими предложениями, с ней стали сотрудничать — и вдруг… посадить под арест?
Ему отвечали с благодушной покорностью, к какой побуждают настырные, но любимые дети:
— Не наши они, а хотели попользоваться. Видели вы их знамя зелёное? Ни красной звёздочки на нём.
— Традиционное — то есть по стародавнему обычаю — мусульманское знамя, — начинал Лабинцов с преподавательской дотошностью в разъяснениях.
— О чём и разговор. Бело-зелёные они! — непринуждённо прерывали его с симпатией людей, уверенных, что они понимают то, до чего не дойти этому приятному, образованному, но не настоящего труда человеку.
— Хорошо ли — взять их деньги, а потом так поступить? — упорствовал Семён Кириллович.
— Деньги взяты на общее дело, — слышал он в ответ. — А давали они их из своего расчёта: чтоб нашими руками оружие заиметь. Против нас бы и повернули.
— Но они с белыми воюют.
— Так на то и банды! Они ль друг с дружкой ладят? — отвечали ему с вежливой иронией превосходства.
Баймак тем временем окружали башкиры: спасшийся Карамышев собрал возмущённых из четырнадцати волостей. По телеграфу пришло требование исполкому: сложить оружие и отпустить захваченных.
Председатель связался с Оренбургом, после чего глядел соколом. Депутаты, узнав от него, передавали рабочим посмеиваясь: «У башкир на один дозор не наберётся ружей. Вся толпа — с самодельными пиками. Всыпят им горячего!»
Предрика телеграфировал Карамышеву, что «доводит до его сведения губернский приказ номер пять», к которому и присовокупил ответ исполкома: «Только через трупы рабочих вы можете взять оружие и арестованных».
Башкиры перерезали провода, но не атаковали. Прошло три дня, стала доноситься редкая перестрелка. Потом красногвардейцы-разведчики крадком вынырнули из посёлка и прибежали назад, подбрасывая шапки: противник ушёл.
Ходили в деревню по соседству, где встал красный карательный отряд: более шестидесяти запряжек, бомбомёт, станковые пулемёты. В поповском доме, натопленном до банной духоты, командир накрылся одеялом над горячим чугуном с травяным настоем и вдыхал целебные пары: изгонял лёгочную хворь. Он открыл мокрое лицо и, моргая слезящимися глазами, сказал, что «уже поработано» по башкирским волостям и будем, мол, продолжать «без роздыху», не заходя в Баймак.
А Лабинцов при каждой встрече с предрика спрашивал об арестованных. Тот отвечал наигранно-вольно, почти панибратски:
— А важный они народ! ой, ва-а-жный, а? — Но тут же добавлял уже совсем с другим выражением, понижая голос в смирении перед возложенной на него ответственностью: — Серьёзные фигуры. Очень-очень серьёзно мы к ним…
В перерыве заседания он, как обычно, занимался бумагами за столом, и Семён Кириллович присел подле:
— Я уже говорил… Изильбаев страдает язвой желудка.
Предрика поглядывал любопытно и кротко:
— Это не секрет.
Лабинцов кивнул и постарался произнести потеплее, как бы заранее благодаря:
— Он получает молоко?
— Решался вопрос.
— Решили? — слабо улыбался Семён Кириллович.
Черты председателя выразили глубокую горечь, точно он услышал от уважаемого человека нечто кощунственное:
— После исполнения приговора вопрос не стоит, — было сказано отчуждённо-замкнуто.
Оно отозвалось в Лабинцове невыразительно и тупо, будто стук по толстому дереву. Так остро было то, что рассекло сознание. Предрика расстроенно-сердито точил карандаш и заполнял собою мир. Семён Кириллович, чувствуя сквозяще холодный перерыв в мыслях, бесцельно спрашивал: какой приговор? кто судил, когда?