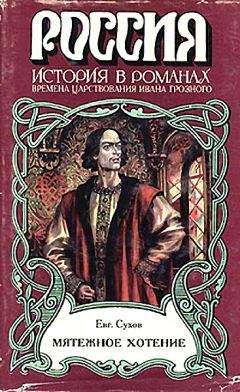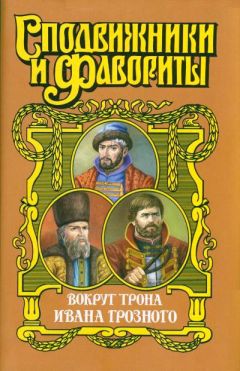Всеволод Иванов - Черные люди
Не понимая слов монаха, а сердцем чувствуя теплоту сочувствия, шатаясь вышел Тихон со двора, побрел к Москва-реке. Июньский день сиял, блистали Кремлевские соборы, царев Верх, но все казалось словно прикрытым черной фатой. Народ стал далек, душа пуста. Он, как глухой, ничего не слыша, перешел мост и оглянулся на Болоте. Над черной большой избой с двумя заплатами — пристроеньем — на высоком шесте торчала рыжая елочка, висела сулейка…
Страшен был царев кабак, а делать нечего. Тихон толкнул дверь — пусто.
Первый ковш Тихону принес сам целовальник — ярыжки кабацкие тоже поразбежались. От того первого в жизни ковша все закачалось перед Тихоном, черные стены с паутинами ушли прочь куда-то, остались только очи Спаса милостивого, невозмутимо сиявшие в полутьме узнавшему горе и тяготу земную человеку.
Тихон сидел в кабаке до ночи, пришел в кабак и сегодня с утра.
Крики, вопли, брань, дым и пепел пожара, измолотый труп Чистого, безголовый Плещеев ровно и не бывали.
— Тихон Васильич! Ты? — раздалось над ним.
Тихон приподнял тяжелую голову. Над ним склонилось белозубое улыбающееся лицо.
— Ульяш?
— Тихон Васильич! Вторые сутки ищу тебя по Москве… Дяденька Кирила Васильич с ног сбились! Думали, уж тебя в Земский приказ взяли или убили где до смерти… Пойдем домой, Тихон Васильич! Из Устюга письма пришли. Батюшка тебя домой требует. Ищем-ищем, а он вона где! А где ж ты ночь изволил гулять?
Тихон поднялся из-за стола, уже спокойный, крепкий, как яровая сосна. Осмотрелся, схватился за голову, вспомнил мутную, хмельную ночь в Стрелецкой слободе, Устьку, стрелецкую женку, утреннее солнце в малой горенке. Рукой провел по лицу.
— Идем домой, Ульяш! Спасибо, что нашел… Всему этому конец! — тихо сказал Тихон, поднимаясь со скамьи. И повторил: — Конец!
Глава тринадцатая. Ночные мечтания
Новоспасский монастырь — сторожа московская, крепость стоит в зеленых от луны стенах, высоко над Москва-рекой. Тонет, монастырь в горячую эту июльскую ночь в старых деревьях. Золотой купол Преображенского собора выше самых больших берез горит свечой над склепами лежащих там бояр Романовых. Тихо. Скрипнула дверь, по плитам двора стучат пудовые сапоги привратника отца Анкудима, огонь фонаря ползет на колокольню, колокол отбивает время:
— Полночь!
В своей келье на жестком, монашеском ложе лежит архимандрит Никон. Полный сил, лежит он не так, как положено по уставу монастырскому — скромно, укрывши все тело, до шеи; лежит навзничь, богатырские руки закинуты за голову, борода всклокочена вверх. Красная лампада напротив освещает большой образ Христа — царя царей, восседающего на престоле в золотом облачении, в архиерейской митре, с евангелием в левой руке, могучей десницей благословляющего вселенную. Грозно лицо Христа, строго сдвинуты брови, видна во всем сила и власть божьего сына.
Царь!
Никон не спит, мысли летят в голове, ровно чайки над родной Волгой. Или впрямь правду нагадал, наворожил ему, Никону, тот мордвин, что вышел внезапно на весеннюю поляну, где мальчик Никитка заслушался кукушки, обещавшей ему долгую-долгую жизнь? Хром, лядащ был ведун, зеленым льдом светились из-под седых бровей косые глаза. Седые волоски шевелились у тонких губ, облепивших беззубые десны.
— Быть тебе, молодец, царем, — прошелестел старик. — А то и поболе.
И стал уходить, шатко переступая по цветкам, — белая рубаха, портки, онучки.
Вот он, мальчик Никитка, сын крестьянина Мины из села Вальдеманова, вотчины стольника Зюзина Григория Григорьевича, стоит в своем дворе, громко плачет: на него топочет ногами, словно бревнами в белых онучах, в липовых лаптях, мачеха в рогатой кике, бусы трясутся на толстой груди. Злые у мачехи глаза, сжила бы со свету мальчишку, только отец и спасает. И сует как-то поутру отец в руку Никитке полтину денег, сам плачет: уходи, мол, от греха, забьет она тебя, сиротку!
Намедни чего сделала: мальчонка в печку залез, ну, погреться— она и затопи печь. Отец спас — дрова повыкидывал из печки с огнем, вытащил сына.
И ушел двенадцатилетним сироткой Никитка из дому, ушел в монастырь Макария Желтоводского, в темный лес, на трудную жизнь.
Лесные русские пустыни — это не славные синайские, египетские, сирийские, палестинские пустыни, что описаны в «Житиях святых». Там каленые, рыжие пески, скалы, развалины засыпанных богатых городов — убежище львов, гиен, шакалов да змей. Туда бежали люди от шумной, соблазнительной жизни больших городов, от дьявольской: красоты, распутного богатства, от власти бушующей плоти, чтобы обуздывать, укрощать себя. Русские же отшельники уходили в лесные, легкие свои пустыни, не мучить плоть, а строить на этой земле светлую, мирную жизнь. На Руси ведь не палящий, знойный юг, а тихий, прохладный север.
Эти лесные пустынники знали твердо, что самый первый, самый тяжелый грех — это уныние, когда человек думает, что бог его забыл, что ты никому уж не нужен, что все, что кажется тебе добром, — только мерзость, и нет тебе, человеку, никакого выхода, спасенья.
Когда мальчик Никитка, оплакивая и разлуку и радуясь освобождению, пришел в тот монастырь, там стояло несколько избушек, где жило тринадцать человек братии, да еще одна изба побольше, под крестом на крыше, храм.
Никита учился у старцев грамоте, пенью, письму, чтению, крепко работал, корчевал пни, пахал пашню, проходил трудовую школу и вместе с тем школу жизненного подвига.
Никита пробыл там пять лет, вернулся в родное село могучим юношей, схоронил скоро всех своих, женился, стал деревенским попом в девятнадцать лет. Жил счастливо, немудро, любимый паствой, перебрался на приход в Москву.
В Москве поп Никита схоронил одного за другим всех ребят. Потрясенный непрочностью земного счастья, уговорил он в отчаянии жену постричься, а сам побрел на Соловки, где и принял монашество с именем Никона.
В студеном Белом море, на острову в белокаменных стенах стоит славная Соловецкая обитель старого новгородского строенья, покоятся там ее строители — Зосима и Савватий. Блещет она золотыми куполами, белеет стенами да башнями, стелет над морем густой звон, крепки ее здания, богаты ее трапезные, где в праздники кормит обитель по пять тысяч гостей — богомольцев, и всем хватает.
Поля и огороды монастыря вспаханы разумно, за леском, чтобы всходы не зазябли. Кузница стоит большая — ставили хлыновские богомольцы. Монахи да трудники куют здесь день-деньской ножи, топоры, косы, серпы. И железо тоже свое — из Кемьского уезду, из ржавых болотин. Шумит рядом ручей — стоит мельница, что крутит точила, — точат монахи тут по триста кос, четыреста пятьдесят топоров, тысячу ножей в день.
Неподалеку — дом в два жилья каменный, своего камня, — кожевенный завод, выделывает шкуры — коровьи, оленьи, тюленьи, нерпичьи: это на непромокаемую одежу соловецким славным рыбакам — рыба соловецкого засола знаменита по всей земле.
Весь большой остров изрезан каналами между пятьюдесятью его озерами — тяжести по воде двигать куда легче. Есть подель[66] — строит рыболовецкие суда, есть сухой док — для их ремонта.
Кирпич дает для строек свой кирпичный завод. Работают и в нем споро, молча, разве псалом запоют.
Все это монастырское хозяйство заведено было еще при игумене Филиппе, том самом, что задушен был Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного: не учи царей правде!
Летописец Соловецкий так повествует об этом делании игумена Филиппа:
«При Филиппе-игумене разведены на острову олени да коровы. Поставлены на промыслах соляных в Колемже два црена[67], да потом еще два. Да на Луде стали варить соль же.
Да еще Филипп-игумен мельницы делал да ручьи копал— к мельницам воду подводил всюду. Да дороги делал, да двор коровий великий поставил в Мукосельмах. Да на Бараксе двор поставил на кирпичное дело, печи да амбары.
Да сделал Филипп-игумен наряд — веяти рожь мехами, водяной силой, мельницей.
Да допрежь того, глину на кирпич копали людьми, а ныне волом — один пашет, что допрежь многие люди копали. И глину на кирпич мяли руками, людьми, а ныне мнут конями. Да и при стройке на церковь воротами кирпич подымают, и брусья, и известь, и всякий запас подымают конями же!»
Разумный хозяйственный порядок учредил в монастыре игумен Филипп, и, убиенный, положен он был там же наблюдать за ходом дел своих, чтобы люди всегда молились, днями работали, вечерами учились хорошему и полезному. И видит, знает Никон дела мученика-митрополита.
Завести бы такой порядок не в монастыре только, а по всей земле! Чтобы игумены правили вместо воевод, чтоб сам царь слушался божьей правды!
Однако жить в большом монастыре среди трудов и братии не стал Никон, любил он уединение, надо было ему вынашивать свои мысли. Ушел он в Анзерский уединенный скит на другом высоком острову Соловецкого архипелага, поставил сам себе избушку среди болот, в безлюдье, шесть дней молчал, а в субботу шел в скитский храм, куда сходились другие отшельники. Всю ночь на воскресенье пели чернецы псалмы, утром служили обедню и расходились в безмолвии.