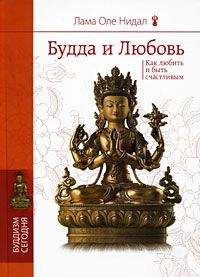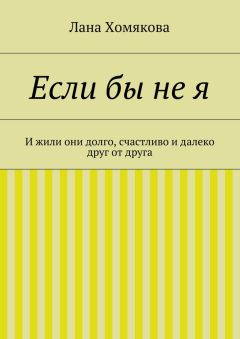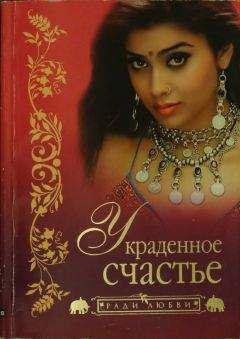Ирина Головкина - Лебединая песнь
– Бабушка сейчас больна, а нам очень нужны деньги. Возьмите меня, пожалуйста, я очень люблю детей, я его не обижу.
– Попробуем. Приходите завтра в три часа, если не будет метели, – было ответом.
Ася ликовала: такой легкий и приятный заработок! Под предлогом репетиции глинкинского трио ей удалось уйти из дому в нужный час, и вот она спускается с лестницы, бережно держа на руках укутанного бутуза. В подъезде стояла группа молодых людей, по-видимому студентов.
– Расступитесь, товарищи, молодая мать идет! – сказал один из них.
– Ай, ай, какой хороший бутуз! – сказал другой.
– Мальчик? – спросил третий.
– Сын, – ответила с важностью Ася.
– Новый защитник революции, стало быть! А как имя?
– Алеша.
– А по батюшке?
Ася встала в тупик. Кажется, чего проще – скажи первое попавшееся имя, и все тут; но, как нарочно, все мужские имена вылетели из ее памяти. Эта заминка была воспринята как симптом весьма специфический.
– Да зачем ему отчество! – воскликнул один из компании. – Он и без отчества будет хорош! Да здравствует товарищ Алексей, защитник мировой революции!
– Ура! – загалдели все, а один из них, положив руку на плечо Аси, сказал:
– Молодец. Так именно должна поступать истинная коммунистка. Семья – пережиток.
Глаза Аси с наивным недоумением обратились на него. «Как поступать?» – уже готово было слететь с ее языка, но она инстинктивно почувствовала, что запутывается в нитях разговора, к тому же жест студента показался ей слишком фамильярным, она поспешила отойти в маленький сквер напротив подъезда и села там на скамейку; Алеша широко улыбался беззубым ротиком: новая няня, видимо, ему очень нравилась. Две пожилые женщины, сидевшие тут же, с любопытством оглядели Асю, живой пакетик на ее руках и даже «бывшего» соболя.
– Сын?
– Сын.
– Только со школьной скамьи – и уже мамаша! А что, роды-то трудные были? Таз-то у вас, надо думать, узкий, а может, ребенок и лежал-то неправильно? Где рожали-то?
Широко раскрыв глаза, Ася с ужасом смотрела на них, не зная, что отвечать. В эту минуту молодые люди махнули ей за изгородью уроненной перчаткой.
– Бегите, возьмите, а ребенка отдайте пока нам, – покровительственно сказала одна из женщин, и едва Ася передала им Алешу, который сейчас же сморщился и запищал, и выбежала из сквера, как дама, бабушка ребенка, показалась в подъезде.
– Это что же такое? Вы уже поспешили отделаться от ребенка? – И, отбирая Алешу, она прибавила: – И это девушка из порядочного дома!
Ася растерянно оглянулась и, почувствовав в этих словах что-то еще не понимаемое ею ясно, но оскорбительное для себя, вспыхнула от обиды. Ничего не объясняя и не оправдываясь, она убежала в подъезд. Эта вторая неудача расстроила ее больше первой, а уже подстерегало новое огорчение.
Во второй половине дня она возвращалась из музыкальной школы в сопровождении Шуры Краснокутского; этот юноша с томными глазами и изысканными манерами, бывший лицеист, окончивший неожиданно для себя вместо лицея советскую трудовую школу, ухаживал за Асей довольно безнадежным образом – она неизменно потешалась над каждым проявлением его любви, и ему никак не удавалось заставить ее взглянуть серьезно на свои чувства. Сам Шура, однако, очень редко умел говорить серьезно, что ему постоянно ставила в вину Ася. В этот раз, разговаривая очень мирно, они только что повернули с Литейного на Пантелеймоновскую, когда высокий сумрачный человек в рабочей куртке и кепке почти столкнулся с ними и, смерив их недоброжелательным взглядом, громко сказал:
– Всех бы вас – аристократов – перевешать!
Юноша и девушка растерянно взглянули друг на друга.
– Господи, что же это?! – воскликнула Ася и остановилась.
– Пойдемте, пойдемте скорей! – воскликнул Шура и повлек ее за руку. – Не оборачивайтесь! Впрочем, он не идет за нами. Какое у него было злое лицо!
– Шура, что мы ему сделали? Они ведь уже расстреляли наших отцов… Неужели же и наше поколение надо резать и гнать? Неужели же мало крови?
– Это называется классовой борьбой, Ася. Мы хотим жить, учиться, быть счастливыми, а мы уже приговорены – вопрос о сроках только. Вот мы хватаемся, кто за иностранные языки, кто за науку, наша образованность пока еще якорь спасения, но они хотят иметь свои кадры «от станка», и, когда создадут их, – нас, бывших, будут выкорчевывать, как пни в лесу.
– Шура, да в чем же мы виноваты? Мне, когда началась революция, было семь лет, а вам десять. И еще, как мог он знать, кто мы? Если бы мы прогремели мимо в золоченой карете, но мы – как все, мы одеты ничуть не лучше окружающих!
Он прижал к себе ее локоть:
– Тут не нужно кареты, Ася! Вас выдает ваше лицо – оно слишком благородного чекана. Я всегда повторяю вам, что у вас облик сугубо контрреволюционный. А мой вид… да мой вид тоже очень характерный! Недавно я зашел в кондитерскую, а продавщица говорит: «Вид господский, килограммный, а покупаете вовсе незаметную малость».
Ася засмеялась, а потом сказала:
– Милый килограммный Шура, мне очень грустно!
– Не расстраивайтесь, Ася! Я для вас все на свете готов сделать – даже перевернуть земной шар!
В глазах Аси мелькнул шаловливый огонек:
– Шура, переверните земной шар, пожалуйста! Не можете? Вот и попались! Вы очень, очень добрый и милый, но вы любите говорить расплывчатые, ничего не значащие фразы, а я, хоть и совсем несерьезная, пустых разговоров все-таки не терплю!
Она ничего не сказала дома о страшном человеке, который хотел увидеть ее повешенной, но не могла отделаться от жуткого впечатления… Ее – Асю! – повесить на трех столбах с перекладиной… За что?
В этот вечер неожиданно раздался звонок – редкость в опальном доме. И когда любопытный носик выглянул в переднюю, глазам представилась невысокая худощавая фигура молодого скрипача-еврея из музыкальной школы.
– Доди Шифман! – радостно воскликнула Ася и вылетела в переднюю.
– Здравствуйте, Ася! Я пришел сообщить, что репетиция нашего трио состоится не в пятницу, а завтра; заведующий инструментальным классом поручил мне вас предуведомить. И еще… у меня вот случайно билеты в «Паризиану», идет хороший фильм… Не пойдете ли вы со мной? – застенчиво пробормотал юноша.
– С удовольствием, конечно, пойду! – Ася подпрыгнула и уже схватилась за пальто, но, обернувшись на француженку, встретилась с ее суровым взглядом.
– Вы разрешите мне, мадам? Или следует спросить бабушку? – растерянно пролепетала она.
– Laissez-moi parler moi-même avec Madame votre grand-mère[60], – ледяным тоном отчеканила француженка и вышла.
Напрасно прождав две или три минуты, Ася выбежала в соседнюю гостиную и оказалась перед лицом выходившей из противоположной двери Натальи Павловны.
– Это что? В пальто прежде, чем получила разрешение? Ты не советская девчонка, чтобы бегать по кинематографам с неведомыми мне личностями.
– Бабушка, это Доди Шифман, скрипач из нашей музыкальной школы.
– Что за непозволительная интимность называть уменьшительным именем постороннего молодого человека? Выйдешь замуж, будешь ходить по театрам с собственным мужем, а этот еврей тебе не компания.
– Бабушка, да ведь Доди слышит, что ты говоришь! За что же его обижать! А по имени у нас в музыкальной школе все называют друг друга.
Ася выбежала снова в переднюю и, увидев, что Доди там уже нет, вылетела вслед за ним на лестницу.
– Доди, подождите, остановитесь! Мне очень неприятно, что вас обидели! Бабушка – старый человек, у нее много странностей; меня она ни с кем никогда… – И, настигнув молодого скрипача, ухватилась за рукав его пальто.
– Я все отлично понял, товарищ Бологовская, бабушка ваша не дала себе труда даже снизить голос, – проговорил юноша, не оборачиваясь на нее.
– Доди, милый! Не подумайте, что я в этом участвую и тоже думаю так! В первый раз в жизни мне стыдно за моих! Евреи – такой талантливый народ, – Мендельсон, Гейне… Пожалуйста, не обижайтесь, Доди! Иначе мне тяжело будет встречаться с вами и трио потеряет для меня свою прелесть. Извиняете? Ну спасибо. До завтра, Доди!
И, взбегая обратно, она думала: «Попадет мне сейчас… бабушка любит только своих родных, а я никак не могу к этому привыкнуть!»
В этот день Наталье Павловне дано было еще дважды выявить всю неприступность своих позиций и величие своего духа, которого не могла коснуться тень упадничества. Этот день поистине был днем ее бенефиса.
Вскоре после того как она указала надлежащее место молодому скрипачу, зазвонил телефон и трубка попала в руки Натальи Павловны. Говорил профессор консерватории – шеф Аси, который просил, чтобы Ася явилась к нему на урок в виде исключения в один из номеров гостиницы «Европейская». Дело обстояло весьма просто: маэстро был в гостях у приезжего пианиста-гастролера и, сидя за дружеским ужином, внезапно ударил себя по лбу и воскликнул: