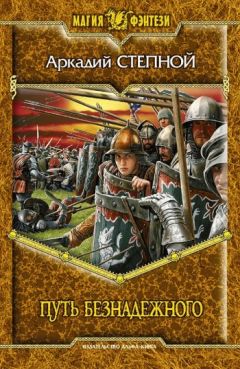Ануар Алимжанов - Гонец
Ты подобен шакалу, Салакбай! Но нынче сила не в твоих лапах. Жигиты, пошли! Выберем себе коней из его табунов. А вы, продажные дети аллаха, идите вместе с нами, — обратился он к туленгутам. — Нынче нам судьи не баи и султаны, а сам народ! Победим — обласкает, погибнем — оплачет. Нынче нам судья — наша совесть, а наш враг один — джунгары…
Не дослушав речи жигита, не узнав, чем закончилось столкновение бедных сарбазов с Салакбаем, старый табунщик со своей дочерью покинули аул и, держась в стороне от людей, спустились в долину и поехали, куда глаза глядят. Сания не могла удержать своих слез — от обиды, от беспомощности, от одиночества.
— Да, трудно, трудно одним без защитника, без опоры… — еле сдерживал свои рыдания Оракбай. — Но мы найдем, найдем здесь своих. Аулы Великого жуза тоже должны быть здесь. Мы поедем к ханским шатрам. Там должен быть Кенже. Говорят, уже прибыли все батыры… — размышлял старик, когда они остановились у небольшого ручья перекусить. Слезы Сании давно высохли.
В этой, охраняемой со всех сторон сарбазами долине, в этих аулах, живущих под охраной ополченцев, сейчас нет страха перед джунгарами. Богачи пригнали сюда под защиту жигитов-мстителей даже свои табуны и отары. Здесь джунгары не страшны ни для Сании, ни для ее отца. Но что из этого? Всегда было так — если ты беден, да еще одинок и беззащитен, то нечего тебе ждать добра от людей. Любой туленгут богача или сам бай, а то и просто какой-нибудь зарвавшийся забияка может безнаказанно поиздеваться над тобой. Такова доля женщины, когда она слаба и беззащитна. Найти бы Кенже, а там будь что будет… Все мысли, все думы девушки были лишь о Кенже. Ведь он тоже где-то здесь… Женское предчувствие не обманывает. Она скоро увидит его. Она ждет этой встречи и боится ее. Быть может, он уже забыл о ней… Достойна ли она того, чтобы помнить о ней?..
Нет, нет, все равно она должна увидеть его. Он защитит отца, защитит ее от обидчиков.
* * *Объединенная конница Санырака, Тайлака и Таймаза, слившись с сарбазами Богенбая, шла на юг к Безымянной горе, сопровождаемая послами и гонцами всех трех ханов Казахской земли. Батыры двигались не спеша, сохраняя силу коней и людей, не отдаляясь от обозов с богатыми военными трофеями, захваченными в битве с джунгарами. Почти вся артиллерия противника оказалась в руках сарбазов. Чтобы не тесниться во время привалов, сарбазы двигались тремя отдаленными друг от друга на десяток верст отрядами. В каждом из них насчитывалось по нескольку тысяч сабель.
Оставив позади верст шестьсот, батыры повернули коней, обошли стороной Туркестан и вышли к просторному караванному пути, связывавшему Чимкала[71] с Шашем[72]. На следующий полдень вновь объединились все три отряда и под приветственные возгласы выезжавших и выходивших навстречу людей — богатых и бедных, лихих воинов и нищих бродяг, убеленных сединами старцев и впившихся в гривы коней степных сорванцов, старух и степных красавиц они наконец достигли главной ставки ханов, укрепивших свои знамена на вершине Безымянной горы.
Собственно, никакой горы здесь не было. Была широкая, просторная зеленая терраса, на которую батыры поднялись незаметно для себя, сопровождаемые радостным гулом народа, собравшегося здесь по зову вождей племен со своими юртами, со своим походным имуществом, со своими кузницами и косяками боевых коней. Терраса эта поднималась над безграничной степью, над безбрежными долинами рек Бадам и Арысь и с юго-запада и юго-востока была окаймлена отрогами Каратауских и Алатауских гор.
Через день после прибытия Кенжебатыр поднялся на верхнюю точку террасы.
Отсюда можно было обозреть все реки и долины, раскинувшиеся вокруг, всю степь, утопающую в переспелой буйной траве. И казалось, что нигде на этой великой казахской земле нет такого места, с которого так же открывался бы простор дальнозоркому взгляду степняка…
Он впервые так широко ощутил первозданную, могущественную красоту степи, он видел ее синеву, ее цветенье и силу. Богатая, щедрая земля лежала у его ног. Небольшие холмы, низкие зеленые отроги напоминали застывшие волны великого моря; реки, сверкающие в лучах солнца, уходили из одного края дали в другой. Но не только красота природы заворожила Кенжебатыра. Ему как воину было ясно, что только с этой точки, только с этой площадки можно увидеть то, что было скрыто от посторонних взглядов, от джунгар. Отсюда были видны все войска народного ополчения.
Вместе с Егоркой, который поднялся сюда рядом с ним, Кенжебатыр видел сарбазов, расположившихся у подножий холмов, укрывавшихся в многочисленных логах волнистой террасы.
Но и отсюда нельзя было увидеть все казахское войско — в этих логах, неглубоких, но самой природой надежно укрытых от глаз ущельях расположилась отборная конница Абулхаира, султанов Абульмамбета, Барака, Болат-хана и объединенная конница Санырака, Тайлака, Таймаза и Богенбая. Кроме них в складках этой огромной террасы надежно укрывались каракалпакские, киргизские и узбекские сотни. И не прошло и часа, как глашатаи известили всех о том, что на помощь ополченцам пришли и таджикские сотни.
— Ох, и великая будет сеча ныне на вашей кайсацкой земле, — потирал руки Егорка. — А что? Не объединить ли мне всех русаков? Своя сотня будет. Есть каракалпакские, туркменские сотни, будет и русская. Потягаемся, кто храбрей и скорей в сече.
— Отныне все решают ханы, — ответил Кенжебатыр, и ему самому показалось, что ответил не он, а кто-то другой. Так непривычно было для него это слово — «хан». Прибыв сюда вместе с батырами, он с первой же минуты почувствовал необычность обстановки. Не только торжественность и величие происходящего, его важность для судеб своих соплеменников и свою причастность к этому событию, но и нечто другое, что больно отдавалось в сердце, рождало глухой протест и злобу. Здесь ему сразу же дали понять, что он из черни, что он не принадлежит к степной знати, к белокостной элите, что он не потомок бая или султана, что даже род его — болатшы — не может быть на равных с другими родами и племенами казахов.
Но, быть может, все это показалось ему? Ведь никто не сказал ему об этом прямо. Его принимали с почетом, как и всех других батыров…
Кенжебатыр впервые в жизни задумался о себе и о своем месте в этом великом скопище людей. Что заставило его задуматься? Слова разодетого, как петух, распределителя мест и юрт для батыров, который, как показалось ему, изо всех сил старался дать понять своими поступками, что он, Кенжебатыр, не может претендовать на место в кругу знати, на место в юртах для почтенных лиц…
— Тьфу! — с досадой плюнул Кенжебатыр. Ему стало стыдно за свои мысли… — Нашел, о чем думать, над чем ломать голову. К чему эта мнительность? Да откуда она?
— Ты что хмурый, опять о своей красотке вспомнил? — спросил Егорка, вглядываясь в лицо Кенжебатыра. — Это, брат, как болячка. Не хочешь, а все одно в голову лезет. Я вот тоже нет-нет да о своей вспоминаю. Была такая. Как пойдет она на ум, так и изба родимая вспоминается и по деревне тоска одолевает. Так я быстро ту думу прогоняю.
— Ты прав, брат, в родных краях, среди родных и горе и обида легче переносится… — задумчиво ответил Кенжебатыр.
Они стояли в ста шагах от огромного белого шатра, в котором проходил совет ханов и султанов. Там же находились великие бии, от батыров там присутствовал Богенбай. Вокруг шатра безмолвно застыла стража. Шатер был обращен лицом к степи, а дальше, чуть ниже по склону, возвышались богатые шестнадцатистворчатые юрты ханов, за ними были рассыпаны юрты и шатры ханской знати и султанов, богачей, еще ниже теснились юрты и шалаши воинов, поваров, табунщиков — всех тех, кто явился сюда, чтобы слиться в огромное людское море. В стороне от белого шатра был вбит в землю железный кол. Возле него на привязи томился одинокий снежно-белый скакун без седла, баз сбруи. Красавец-конь с султаном из совиных перьев на холке. Грива его была заплетена в косички, на хвосте алые и голубые ленты. Не конь, а тулпар.
Поглядывая на белого скакуна, о чем-то переговариваясь меж собой, поодаль на богатых коврах, на атласных подушках полулежали несколько старцев в бело-голубых чалмах. То были хозяева разрушенных джунгарами мечетей Туркестана и Сайрама, люди высокого духовного звания, ходжи, совершившие паломничество в Мекку и потому почитаемые народом как святые. Без их благословения удача не могла сопутствовать в любом большом деле. Они изредка отмахивались опахалами от мух и степенно потягивали свежий кумыс из огромных фарфоровых чаш. Несколько молодых жигитов молча стояли рядом, готовые выполнить любое повеление верховных служителей аллаха. Но ходжам не было дела до них; лениво перебрасываясь словами, они то поглядывали в сторону шатра, то бросали пристальный взгляд на западный склон верхней террасы, где дымились костры над котлами. На свежеструганных осиновых кольях разделывали бараньи туши. Там, вокруг костров, не менее ста мужчин и женщин, засучив рукава, торопливо готовили трапезу для ханской свиты, султанов, батыров. В огромных бурдюках, привязанных к наспех вбитым столбам, молодые женщины взбивали и взбалтывали кумыс. Молодые жигиты на конях без устали подвозили и подвозили к ним кобылье молоко из ближнего лога, где доили кобылиц. Веселые, сытые гончие и дворняжки, радостно повизгивая, гонялись друг за другом вверх и вниз по склонам. Десятки озабоченных конных и пеших, как муравьи, неустанно шныряли от юрты к юрте, от аула к аулу. Одним словом, все говорило о том, что люди ждут какого-то торжественного события, ждут окончания ханского совета. Но из шатра пока никто не выходил. Только безмолвные слуги то скрывались в шатре, то вскакивали на коней и мчались куда-то по срочным делам. А молчаливая стража зорко следила за тем, чтобы никто кроме слуг не приближался к шатру. Нетерпеливо, звонко заржал белый скакун. На его голос откликнулись другие, что стояли у дальней коновязи под охраной туленгутов. То были отборные рысаки и прославленные скакуны султанов и батыров, заседавших сейчас в главном шатре.