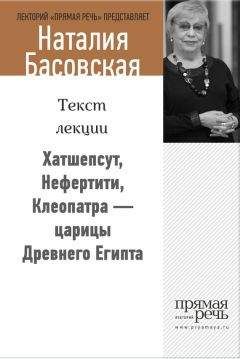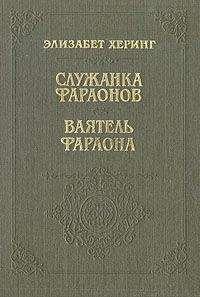Гарри Табачник - Последние хозяева Кремля
На часах истории США опоздали куда больше, чем на несколько минут. Это опоздание им обойдется очень дорого. Человек, занимавший место в кабинете посла на противоположной от Никсона стороне границы это отлично понял.
МОЛДАВСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ
Получив последние сообщения из Венгрии, Черненко вздохнул с облегчением. Все это время он следил за тем, что происходит в соседней стране, с напряженным вниманием. Весть о том, что против режима выступили крестьяне, потребовавшие роспуска колхозов, заставляла его нервничать. Он больше сутулился и втягивал голову в плечи, Словно ждал удара. Кто знает, как отнесутся в молдавских селах к тому, что слышат по радио из-за рубежа... Залети венгерская искра — и хлопот не оберешься. Ведь в маленькой республике на границе с Румынией еще не забыли о том времени, когда советской власти здесь не существовало. Немало еще в живых было помнивших, какой была жизнь прежде. С тех пор прошло совсем немного времени. Официально значительная часть территории республики стала советской в 1940 году. Тогда Сталин с согласия Гитлера отобрал у Румынии Бессарабию и Буковину. Вскоре началась война, пришли немцы и румыны, и на три года о советской власти забыли.
В 1948 году, когда Черненко въехал в кабинет в здании ЦК на Ленинском проспекте в Кишиневе, о восстановлении советской власти можно было лишь рапортовать Москве. На самом же деле действительность была от этого далека. Как и в соседней Украине, и здесь не утихала партизанская война, колхозы большей частью существовали только на бумаге, партийных организаций в деревнях почти не было. Новый агитпроп старался изменить положение. Он пытался убедить крестьян в преимуществах колхозного строя, боролся с приверженностью населения к прежним обычаям и традициям, стремился навязать новую культуру, выкорчевать воспоминания о прошлом, разорвать связь с ним.
Приехавшему из Пензы коммунисту прошлое Молдавии мешает. Его не устраивают исторические связи молдавского народа с румынским. У него не вызывает восторга то, что молдаване пользуются латинским алфавитом, позволяющим им чувствовать себя частью западного мира. Это следовало искоренить. С этим нельзя было мириться, особенно когда в стране началась борьба с космополитизмом. Республике навязывают славянскую азбуку. Теперь, хоть Черненко и не понимает языка, но зато написанное в газетах и брошюрах выглядит знакомо. Он считает это своим важнейшим достижением. Он уверен, что уж кого-кого, а его-то уж упрекнуть не в чем. Тем неожиданнее для него явилось опубликованное в „Правде” постановление о неудовлетворительной работе молдавской парторганизации. Он еще не успел прийти в себя от первого, как появляется второе. Опять обвинения в провале коллективизации, в отсутствии решительности по выкорчевыванию „остатков буржуазного национализма”. Это уже было не только серьезно, но и опасно.
*В тот день он прошел к себе в кабинет ни на кого не глядя. Догадывался, что за его спиной перемигиваются и перешептываются сотрудники, которым уже все известно. Ладно, с ними он разберется потом. Снимет, как положено, стружку. А сейчас, буркнув секретарше: ”Ни с кем не соединять”, заперся в кабинете. Расстелив перед собой на столе ненавистное постановление, вновь уткнулся в него.
„...буржуазно-националистические извращения и идеализация феодальной Молдавии...”, „...недостаточное внимание уделено образованию молодежи...”, „...школьные программы не контролируются...”, „...сельские парторганизации не растут...” — читал Черненко выдвинутые против республиканского руководства обвинения, и каждое, как удар молота, отдавалось у него в голове.
Да, права была Анна, как всегда, права... И черт его дернул согласиться на эту Молдавию. Сидел бы себе в своей Пензе, где все давно налажено и никаких волнений... Глушь, правда... Да лучше до конца своих дней сидеть в какой угодно глуши, чем такое... На солнышко, вишь, потянуло... в тепло,.. к виноградникам. Тьфу, ты, — сплюнул он и выругался в сердцах. Провались они пропадом эти солнечные виноградники. И на водке прожить можно. А эти всякие Теленешты, Коренешты? Язык ведь сломаешь... Нет, черт меня дернул. Теперь все пропало. Коренешты проклятые, — он опять выругался и заходил по кабинету. Раздался звонок. Кого еще несет? Сказал же не соединять. Нехотя взял трубку.
— Ну, что думаешь? — услышал он голос Трапезникова.
— А чего думать? Разнос... Полный разнос... — повторил Черненко.
— „Самого”-то уберут? — выведывал ректор партакадемии, намекая на первого секретаря Николая Коваля.
— Как пить дать, — подтвердил Устиныч.
Он не сомневался, что и его карьера рухнула. После такого двойного разгрома самое большее, на что он мог надеяться,— это хоть за что-то зацепиться, чтобы из номенклатуры не вылететь. Потому что, если из нее вылетишь,— тогда уж совсем конец.
Он не подозревал, что то постановление, на которое он взирал с такой ненавистью и которое считал смертным приговором своей карьере, на самом деле для него благословение. Не будь его, и не было бы того разговора, который вскоре состоялся в Москве.
Проведав о том, что снятие Коваля решено, Хрущев вызвал уже несколько месяцев находившегося при нем Брежнева.
— Как ты к Молдавии относишься? — спросил он выжидательно на него смотрящего бывшего первого секретаря днепропетровского обкома.
— Хорошо отношусь, — тут же ответил Брежнев, во взоре которого и даже в том, как он сидел, отражалась полнейшая готовность сделать все, что прикажет Хрущев. — Хорошо отношусь, — повторил он и, увидев, что Хрущев улыбается, позволил себе пошутить. — Особенно к молдавскому коньяку...
— Молдаванки тоже, рассказывают, неплохи... Этакие, знаешь, как у нас кажуть, „с гаком”, — Хрущев сделал выразительный жест рукой, — Ну, об этом в другой раз, когда к тебе в гости приеду и ты, так сказать, сам в местные дела вникнешь... — Он сделал паузу. — Чуешь, к чему клоню? Хочу тебя Иосифу Виссарионовичу предложить в „первые”... Понял? — Он хитро прищурился на ставшего еще более подобострастным Брежнева. — Справишься... Загребай покруче, а будут артачиться, так ты им такую Кузькину мать покажи, чтобы свою забыли... — Никита Сергеевич по привычке стукнул кулаком по столу. — Понял?
— Будет сделано, — четко, как привык в армии, ответил будущему вождю другой будущий вождь.
Против хрущевского выдвиженца Сталин не возражал. У него свое было на уме. Как жонглер в цирке, он все время занят был удержанием расставляемых им фигур „на балансе”. В этом смысле вся его политическая карьера — затяжной акт балансирования... Теперь ему надо было сбалансировать набравшего слишком большую силу и мнившего себя кронпринцем Маленкова. Он и Хрущева вызвал с Украины и сделал его первым секретарем московского обкома и горкома именно потому, что собирался столкнуть его с „кронпринцем”. Поэтому он и не возражал против того, чтобы Микита, как он его называл, расставлял „своих”, укрепляя свои позиции.
Так летом 1950 года в Кишиневе появился новый первый секретарь, отличительной чертой которого были черные брови, настолько густые, что напоминали выросшие не на своем месте усы. Позднее острословы будут доказывать, что Брежневу достались по наследству усы Сталина, которые ему по ошибке не туда приладили. Позднее также напишут, что был он избран на пленуме местного ЦК. На самом деле никакого пленума не было. Его просто прислали, как присылают наместника. Он и повел себя, как наместник. И в этом нашел верного помощника в лице Черненко.
Вообще-то он должен был бы выгнать агитпропа, как не справившегося со своими обязанностями. Но, видимо, уловил в нем его главный талант. Понял, что никакой тот не идеолог. Даже речь — не то что сказать, а по бумажке прочитать не может... Политрук из него вышел бы хреновый... Пошли такого к солдатам перед боем — слушать не станут...
Раздумывая, Брежнев сквозь папиросный дым разглядывал лицо Черненко. Если бы он видел себя, когда сидел в кабинете Хрущева, то на лице агитпропа уловил бы точно такое же выражение готовности служить и полнейшей преданности, какое было тогда на его собственном лице.
Черненко ждал решения своей судьбы, и по мере того, как молчание Брежнева затягивалось, голова его все более и более уходила в плечи и на скулах выступал румянец.*
Но и только что прибывшему в республику первому секретарю нужно было на кого-нибудь опереться. Черт с ним, что говорить не может, решил Брежнев, лишь бы делал то, что скажут. Ему нужен был изворотливый, послушный исполнитель. Он почувствовал, что для этой роли Черненко подходит, и оставил его.
То, что произошло в Молдавии за два с небольшим года, которые Брежнев провел там, можно назвать повторением советской истории в миниатюре. Тех, кто в тридцатые годы не жил при советской власти, как бы возвращают в эти годы. Они проходят через коллективизацию, раскулачивание, террор. Брежнева отнюдь не удовлетворяют меры, которые были приняты до него. То, что из трехмиллионного населения республики уже выслан или расстрелян каждый шестой, ему недостаточно. Через много лет будут писать о „мягкости” Брежнева, и никто не догадается обратиться к молдавскому периоду его карьеры. Тому, кто жил тогда здесь, брежневские годы вспоминаются как самые мрачные. В газетах каждый день объявляли, кого теперь надо считать врагом, и это служило сигналом к очередной волне репрессий.