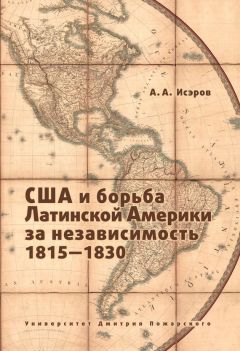Марк Твен - Жанна дАрк
Подобные события наполняют горечью жизнь, и я не чувствую охоты на них останавливаться. Впечатление от поэмы было совершенно утрачено.
Глава XVI
Это происшествие расстроило меня, и я на следующий день не мог встать с постели. Не будь этого, кому-либо из нас, вероятно, досталось бы то счастье, которое выпало в тот день на долю Паладина; впрочем, легко заметить, что Господь по Своему милосердию посылает удачу тому, кто мало наделен природными дарованиями, чтобы вознаградить его за недомыслие; между тем как счастливо одаренным Он повелевает достигать трудом и талантом того, что тем достается случайно. Это сказал Ноэль; и по-моему, мысль его была хороша и справедлива.
Паладин, гуляя целый день по городу, чтобы показать себя народу, вызывать всеобщее восхищение и слышать, как люди благоговейно говорят друг другу: «Ш-ш! Посмотри-ка – вот знаменосец Жанны д'Арк!» – вступал в разговоры со встречным и поперечным и узнал от лодочников, что в бастилиях, на другой стороне реки, идут какие-то приготовления; а вечером, продолжая свои поиски, он встретил перебежчика из крепости, называвшейся «Августинцы», который сказал ему, что англичане предполагают, пользуясь покровом ночи, переправить отряд для усиления своих гарнизонов на нашем берегу и что они сильно ликуют, потому что надеются напасть на Дюнуа и уничтожить его армию, когда она будет проходить мимо бастилий. А сделать это легко, так как «ведьмы» там не будет и в ее отсутствие армия окажется такой же, какой она была на протяжении многих лет подряд: войска побросают оружие и обратятся в бегство, лишь только появится английский солдат.
Было десять часов вечера, когда явился Паладин с этим известием и попросил разрешения переговорить с Жанной; я не спал и находился на дежурстве. Горько было мне видеть, какой случай я упустил. Жанна тщательно расспросила обо всем и, убедившись в правильности сообщения, сказала, к великой моей досаде:
– Ты поступил хорошо – благодарю тебя. Быть может, ты предотвратил большое бедствие. Твое имя и твоя заслуга будут упомянуты в официальном докладе.
Он низко поклонился, а когда выпрямился, то в нем было одиннадцать футов росту. Спесиво проходя мимо меня, он украдкой оттянул себе пальцем угол глаза и пробормотал отрывок этого злополучного припева: «Ах, слезы, слезы! О, слезы нежной грусти!.. Мое имя в приказе по армии – будет доведено до сведения самого короля. Как это тебе нравится?»
Мне бы хотелось, чтобы Жанна заметила его поведение, но она размышляла о том, что надлежит предпринять. Она послала меня за рыцарем Жаном де Мецом, и через минуту он уже спешил к Ла Гиру с приказом – ему, де Вильяру и Флорану д'Илье – явиться к ней в пять часов утра с отрядом в пятьсот хорошо вооруженных и лучших солдат. В летописях говорится, что назначено было приготовиться к половине пятого, но это неверно: я сам слышал приказ.
Мы выступили в пять часов, минута в минуту, и в седьмом часу встретили в нескольких лье от города передовую колонну приближавшегося войска. Дюнуа обрадовался, так как войско начало робеть и тревожиться по мере приближения к грозным бастилиям. Но настроение сразу изменилось, когда по всем рядам пронеслась волною весть о прибытии Девы, и раздались возгласы ликования. Дюнуа попросил ее остановиться и пропустить мимо себя всю колонну, чтобы солдаты могли удостовериться в том, что известие о ее прибытии правдиво, а не вымышлено с целью ободрить их. Она расположилась со своим штабом сбоку дороги, и отряды, один за другим, воинственно промаршировали мимо нее, крича «ура!». Жанна была в латах, только вместо шлема она носила изящную бархатную шапочку, осененную пучком вьющихся белых страусовых перьев, ниспадавших по ее краям, – подарок города Орлеана, поднесенный в вечер ее приезда; в этой шапочке Жанна изображена на портрете, который хранится в городской ратуше Руана. На вид Жанне можно было дать лет пятнадцать. При виде солдат у нее всегда закипала кровь, глаза разгорались, щеки заливались густым румянцем; и тогда всякий видел, что ее красота – не от мира сего, или что в ее красоте есть нечто неуловимое, что отличает ее от всех знакомых вам человеческих образов и возвышает над ними.
Показалась вереница повозок, нагруженных запасами; на одной из телег лежал поверх тюков человек. Он был распростерт на спине, руки его были связаны веревками, ноги – тоже. Жанна знаком подозвала к себе офицера, которому была вверена эта часть обоза; он прискакал и отдал ей честь.
– Кто это лежит связанный? – спросила она.
– Преступник, генерал.
– Чем он провинился?
– Он – беглый.
– Что ждет его?
– Его повесят; во время похода это было неудобно; к тому же незачем было торопиться.
– Расскажите мне о нем.
– Он – хороший солдат; но он попросился в отпуск, чтобы повидать умиравшую жену, – так он сказал; ему отказали. Тогда он ушел самовольно. Между тем мы снялись с лагеря, и он догнал нас только вчера вечером.
– Догнал вас? По собственному желанию?
– Да, по собственному желанию.
– И он – беглый? Боже мой! Приведите его ко мне.
Офицер поехал вперед, развязал ноги солдату и привел его назад, со скрученными руками. Какой это был молодец – добрых семь футов росту, богатырь хоть куда! У него было отважное лицо; а когда офицер снял его шишак, густая копна нечесаных черных волос рассыпалась по плечам; оружием служил ему огромный топор, заткнутый за широкий кожаный пояс. Он стоял рядом с лошадью Жанны, и Жанна казалась еще миниатюрнее; их головы были почти на одном уровне, хотя Жанна сидела на коне. На лице его была печать глубокой грусти; казалось, он всецело отрешился от жизненных помыслов. Жанна сказала:
– Подыми руки.
Солдат до тех пор стоял с поникшей головой. Но услышав ее кроткий дружелюбный голос, он поднял лицо, на котором вдруг отразилось какое-то сосредоточенное внимание; казалось, что слова ее были для него музыкой, которую он желал бы услышать вновь. Он поднял руки, и Жанна приложила лезвие своего меча к его путам, но офицер произнес с испугом:
– Ах, госпожа… мой генерал!
– В чем дело? – спросила она.
– Ведь он осужден!
– Да, я знаю. Беру на себя ответственность, – и она перерезала веревки. Они впились в тело, и кисти рук солдата были в крови. – Ах, несчастный! – сказала она. – Кровь! Я не люблю крови… – И она невольно отшатнулась, но тотчас оправилась. – Дайте мне что-нибудь, надо перевязать ему раны.
Офицер возразил:
– О генерал! Годится ли это? Позвольте мне поручить это дело другому.
– Другому? De par le Dieu! Вам долго пришлось бы искать, чтобы найти кого-либо, кто сумел бы сделать это лучше меня: ведь я давным-давно занималась этим и среди людей и среди животных. И связать его я сумела бы лучше этого: если бы поручили мне, веревки не врезались бы ему в мясо.
Солдат стоял молча, пока ему делали перевязку, и время от времени украдкой взглядывал на лицо Жанны; он похож был на животное, которое, встретив неожиданную ласку, старается разобраться в случившемся. Свита совершенно забыла о ликующем войске, которое шло мимо нас, поднимая облака пыли; все вытягивали шеи, чтобы следить за перевязкой, как за зрелищем беспримерно занимательным и увлекательным. Нередко я наблюдал подобное явление: люди сосредоточивают все свое внимание на каком-нибудь простейшем событии, если только оно кажется им из ряда вон выходящим. В Пуатье, например, я видел, как два епископа и около дюжины важных и знаменитых ученых столпились около лавки, чтобы посмотреть на маляра, писавшего вывеску; они стояли, затаив дыхание, не смея шевельнуться; начал накрапывать дождь, но они не сразу заметили; только потом они спохватились; каждый из них глубоко вздохнул и с удивлением посмотрел вокруг, словно недоумевая, как сюда попали остальные и как он сам очутился здесь… Но, повторяю, часто бывает так с людьми. Тут нечего вдаваться в рассуждения: людских свойств не переделаешь.
– Ну вот, – сказала наконец Жанна, довольная своим успехом, – никто другой не смог бы сделать лучше, – пожалуй, даже не сделал бы и так, как я. Расскажи мне – что ты сделал? Расскажи обо всем.
Великан сказал:
– Вот как было дело, ангел мой: сначала умерла моя мать, затем – трое малых ребят, один за другим; и все в каких-нибудь два года. С голоду. Другим тоже приходилось круто, на все воля Божья. Умирали они у меня на глазах: Господь сподобил меня; и я похоронил их. А когда настала очередь и моей бедной жены, то я просил отпустить меня к ней: ведь она была мне так дорога, кроме нее, у меня не было никого на свете; на коленях молил. Но меня не отпустили. Как же оставить ее, умиравшую, не имевшую друзей, одинокую? Как же я мог покинуть ее в час смерти, отнять у нее надежду увидеть меня еще раз? Неужели она не пришла бы, зная, что я умираю, – не пришла бы, зная, что ей стоит только пойти и что за это она должна будет заплатить только жизнью? О, она бы пришла – она прошла бы сквозь огонь! И я пошел. Я свиделся с ней. Она умерла у меня на руках. Я похоронил ее. А войско двинулось в путь. Трудно было догнать, однако ноги у меня длинные, а день велик: вчера вечером я догнал их.