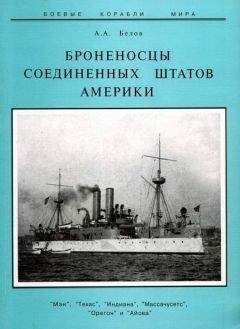Искусство и его жертвы - Казовский Михаил Григорьевич
Мэрия была в центре городка, как положено, с башенкой с часами. Сняв пальто, я и Марианна заглянули в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. Появилась тут и Полинетт. Марианна сказала:
— Выглядишь счастливой. Ты довольна?
Глядя на себя в зеркало, дочь Тургеля ответила:
— Да, конечно. — Помолчав, добавила: — Пусть он не красавец, ну так русские говорят, что с лица не пить воду. Главное, что ко мне относится хорошо. Наконец-то разомкну порочный круг: я — папа — Виардо. Стану независимой.
— Стало быть, "порочный"? — удивилась я.
Будущая мадам Брюэр вспыхнула:
— Разве нет? Я не лезу в папину душу — раз ему так нравится, пусть живет как хочет. Но меня всегда это угнетало. Так хотела, чтобы он женился на Иннис! Чудо, а не женщина!.. Но увы… Нет, не знаю…
Я заметила:
— С точки зрения здравой логики, ты права. Но у гениев многое не по логике. Твой отец — гений и не может быть, как все. Вероятно, если бы не любовь к моей матери, он не написал бы свои шедевры, кто знает?
Наши рассуждения прервала Тереза, заглянувшая в дамскую комнату.
— Полинетт, девочки, что такое? Все вас ждут. Время без двух минут три.
Мы засуетились и побежали.
Мэр Ружмона — полный усатый дядька с лентой через плечо — в небольшой нравоучительной речи рассказал об ответственности мужа и жены друг перед другом, потому как семья — дело непростое, государство покоится на здоровых семьях и так далее. Наконец спросил молодых, сочетаются ли они по доброй воле, нет ли каких препятствий к браку (например, ранее заключенных браков или болезней) и еще что-то, получил положительные ответы, попросил расписаться в книге и торжественно объявил их супругами. Новобрачные обменялись кольцами и поцеловались. У Тургеля на глазах были слезы. А Тереза стояла, как каменный истукан. Выпили по бокалу шампанского, поднесенного служащими мэрии, и на тех же колясках возвратились в замок, где в большой зале были накрыты праздничные столы.
Впечатление от залы оставалось мрачноватое: несколько масляных светильников и горящий камин — в общем, полутьма. Для средневековых рыцарей эта обстановка, вероятно, выглядела нормальной, но во второй половине XIX века все-таки хотелось бы больше света — например, газового. А вот кушанья оказались неплохи, мне особенно понравилось мясо молодого барашка на косточке. И вино сносное. Каждый из мужчин (господин де Надайк, а потом Тургель и Гастон) поднимались и говорили спичи-тосты. Тема, естественно, одна — счастье молодых. Де Надайк превозносил своего управляющего, упирал на его деловые качества и порядочность — мол, с таким мужем Полинетт как за каменной стеной. У Тургеля катились слезы, он просил прощения у дочери, что не мог уделять ей должного внимания, и желал поскорее понянчить внуков. А Гастон всех благодарил за внимание и честь, оказанные ему и его молодой жене.
На десерт подавали кофе и пирожные. Мы с Марианной спели на два голоса несколько старинных испанских свадебных песен в обработке нашей матери, Полинетт же аккомпанировала нам на рояле. Наконец отпустили новобрачных по понятным новобрачным делам, взрослые устроились играть в карты, мы ж с сестрой вскоре пошли спать в свои комнаты (из-за позднего времени ночевали в замке). Я довольно быстро уснула (видимо, под воздействием выпитого вина), а потом проснулась среди ночи и ворочалась долго, размышляя надо всем увиденным и услышанным. Эта свадьба Гастона и Полинетт выглядела, в сущности, не особенно празднично. Не читалось счастья на лицах молодых. Вроде бы не триумф любви, а какая-то торговая сделка. Или поступок от безысходности… Дал бы Бог, чтобы я ошибалась. Может, со временем попривыкнут друг к другу?..
Я решила, что моя свадьба будет совсем иной — настоящим весельем, с танцами, смехом, играми. (Кстати, в мечтах моих вовсе уже не фигурировал Тургель — то были детские, наивные фантазии, как порой дочка хочет в будущем выйти замуж за своего отца. Нет, нет, только не Тургель! Сам же он, как выяснилось, думал иначе…)
Серое февральское утро заглянуло в окна робко, словно извиняясь. Кое-где на траве лежал снег. Было не холодно, но немного зябко.
Собрались на завтрак все какие-то сонные. Молодые вышли позже других и смотрелись довольно бледно, отвечая на шутки вялыми улыбками. Нет, определенно и брачная ночь их не окрылила. Только де Надайк попытался растормошить гостей и рассказывал какие-то глупые истории из своей боевой юности. Наконец Тургель объявил, что ему и девочкам Виардо (то есть нам) надо уезжать. Из приличия маркиз предложил задержаться еще на день, вместе поохотиться (зная его любовь к этому способу времяпрепровождения), но писатель был непреклонен, уверяя, что в Париже много срочных дел. Мы уселись в коляску и, тепло простившись с хозяевами и молодоженами, укатили прочь.
По дороге я спросила Тургеля о его впечатлениях. Он ответил не сразу, погруженный в свои размышления.
— Понимаешь, Диди, — тяжело вздохнул, — это лучшее, что я мог предложить моей дочери. Кем бы она была в России? Белошвейкой, как ее мать, приживалкой в богатом доме? А теперь, пусть и без любви, но замужняя дама — мадам Брюэр, муж стоит на ногах крепко. А любовь — что любовь? Это для поэтов и музыкантов. Люди нетворческие не должны витать в эмпиреях.
Марианна сказала:
— Я бы не смогла без любви. Лучше остаться старой девой.
Мы с Тургелем весело рассмеялись.
— Ну, тебе, милашка, в девах остаться не грозит.
И как в воду глядели: на два года раньше меня обручилась она со своим женихом. Правда, потом рассталась, и вышла за другого… Но негоже забегать в рассказе вперед. А пока что скажу одно: наша жизнь в конце 60-х годов двигалась вполне предсказуемо — мы взрослели, а родители старились, непоседа Поль с детства проявил талант скрипача, и ему прочили блестящее будущее. Что касается Полинетт, то она, по слухам и ее письмам, первое время жила в замужестве сносно, если не считать придирок свекрови, упрекавшей невестку в том, что никак не может подарить ей внуков. А потом франко-прусская война 1870 года и Парижская коммуна сильно изменили наши планы…
ПОЛИНЕТТ
Долго не могла я привыкнуть к новому моему положению мужней жены. Оказалось, все мои знания, что получены были у домашних учителей Виардо, а потом и в двух пансионах, совершенно не применимы в жизни семейной — ни история с географией, ни правописание, и иностранные языки, и музыка, математика и литература; приходилось вспоминать только те навыки, что привиты мне были в детстве у приемных родителей: шить, стирать, убирать комнаты, покупать продукты, стряпать… Для чего тогда я переселялась во Францию из России? Пусть не образованная, как парижские барышни, я могла бы там найти свое настоящее счастье, на родной почве и среди людей, думающих, как я… Но увы, увы, ничего поменять уже невозможно, жизнь сложилась так, как сложилась, как желал отец… Он, конечно, хотел облагодетельствовать меня, совершил все из лучших побуждений, полагая, что простой быт в деревне не для дочери барина, писателя, надо окунуть ее в цивилизацию. В результате выдернул из привычной обстановки, бросил в чужую. Получилось: я уже и не русская совсем, постепенно и необратимо забывая язык и обычаи, но француженкой стать тоже не смогла, потерялась, не ведая, для чего живу и к чему стремлюсь. Дети могли бы занять мои мысли, сделаться смыслом существования, но никак не получалось их выносить, дважды происходили выкидыши, я страдала, а Гастон и Тереза злились на меня и ругали, словно я нарочно прерывала беременность. И молиться даже было негде: православные храмы в Ружмоне, конечно, отсутствовали, приходилось ходить в католический, но душа оставалась не на месте, я привыкла с детства обращать свой взор на иконы, а не на скульптуры…
Нет, Гастон меня по-своему любил, часто защищал перед матерью и с большим удовольствием предавался плотским утехам по ночам, говоря (полушутя-полусерьезно), что иметь жену много выгоднее, чем платить каждый раз непотребным девкам. Я смиренно принимала все его ласки. А по праздникам подносил хоть и недорогие, но все же подарки — то колечко, то брошку, то сережки…