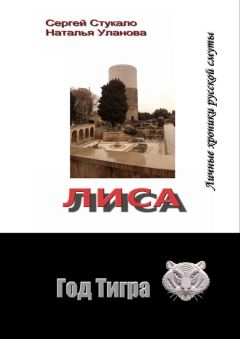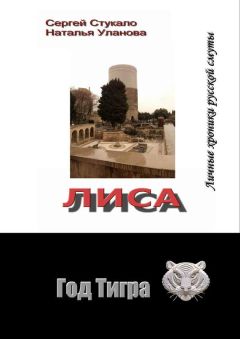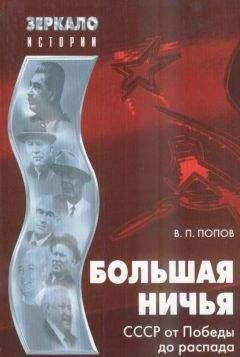Михаил Попов - Ломоносов: поступь Титана
— Да, брат, время летит, — кивает Ломоносов и уже озабоченно обращается к маленькой хозяйке: — Распорядись с рыбой, Матреша. В ледник ее… А одну тресоцку, — он с удовольствием цокает языком, — кухарке… Да покрупнее гляди…
— Слушаюсь, дяденька, — кланяется юная ключница.
— А Лизавете Андреевне скажешь, что к вечере ноне не пойду.
Девчушка упархивает, а хозяин с гостем придвигаются к столу.
— Ну, со свиданьицем, Федор Иванович! — разлив привальную, улыбается Ломоносов.
— Со свиданьицем, Михайлушка! — вторит гость, поднимая стаканчик.
Они дружно выпивают, крякнув, закусывают.
— Как доехалось-то? — осведомляется Ломоносов. — Мазурики по дорогам не балуют?
— У нас-то в Подвинье нет, — утирая усы, отвечает Пятухин. — Тамотки тихо. Тут уж, близь Питера, бают, шалят… Да нас-то не трогали. Чай, ватага. Голыми руками не возьмешь. — Он молодецки посверкивает глазами и тут же гасит эти огоньки. — Друго дело поборы. Мостовые опеть дерут, страсть. Полушка с лошади. А тут мостов-то — сам ведаешь. Не напасешься тех полушек. Ну, дак мы где и по льду, ежели зимник есть. Объездом. Смекаешь?
В бороде Федора Ивановича, точно шустрая красноперка, мелькает лукавая улыбка.
— Мостовщики иной раз свистят, мол, назад, не положено. А мы — мимо, да на дорогу опять. И смех и грех! Ровно робяши в ухоронки играм.
— Да, — хмыкает Михайла Васильевич, наливая по другой. — У меня в Рудице мужики тоже жалятся. От почтовой гоньбы их, слава Богу, ослобонил, от постоя тоже. Но подати-то растут. Подушные деньги казне выложи, — он загибает пальцы, — сюда же — оброк, да не натурой — деньгами…
— Во-во, — подхватывает Пятухин, — банные, прорубные, хомутные… ноне не дерут. Дак окромя…
— …Десятинная пашня, — подхватывает Ломоносов, он ведает, чем и как живут подвластные ему крестьяне. — Да мосты по дорогам исправлять после распуты, да в будках сторожить по очереди…
Загнутые пальцы Михайлы сжимаются в кулак, а из кулака неожиданно выныривает «фига».
— Это так один мужичонка показал. Вот, мол, чего мне достается опосля всего. Да и утек…
— Далеко ли?
— Да, видать, на дорогу — разбойничать. — Ломоносов вскидывает кулак. — Правда, из моих-то такой один… А у соседей семьями бегут…
— А я слыхивал, Михайлушка, мазурики-то и тебя задирали…
— Ну, меня-то не возьмешь, — отмахивается Михайла. — Кишка у них тонка. Сами едва ноги унесли.
— А много ль было-то?
— Да нет, — отмахивается вдругорядь Михайла как от пустяка и валко поводит плечами. — Трое.
— Эва, — присвистывает Пятухин, любуясь статью земляка.
— Я-то ладно. — Ломоносов опять переводит на прежнее. — О третьем годе моих мужичков подубасили. Да где? На своей же заимке.
— Кто ж так?
— Соседи. Дворовые из ропшинского имения. Лес, вишь ли, рубить у меня на Коважской мызе повадились. Ну, мои мужички мимо ехали, принялись корить. Порубщики заелись, кинулись на них с дубьем. Моих-то пятеро, а тех там десять по пятеро. Ну, и наломали им. Один, Роман Пантелеев, едва не околел…
— И чем кончилось?
— Пришлось обращаться в Мануфактур-контору. Там встали на мою сторону. Дали порубщикам укорот. И управляющему, и подрядчику. Боле не суются.
Вид земляка вызывает прилив молодечества, оттого и поводит Михайла Васильевич крутыми плечами, оттого и речи все задорные ведет, покатывая словеса, ровно двинские голыши. Но вот кончается запал, первый разбег хмеля — и говуря перетекает в спокойное русло, какое и подобает вести уже немолодым, давно простившимся с юностью людям.
— Велик ли обоз-то? — осведомляется, откинувшись на спинку кресла, Ломоносов.
— Да двадцать дровен.
— Но? — хлопает себя по коленям Михайла Васильевич. — Так идет негоция-то?
— Да как ить поглядеть, — мнется Пятухин. Что у добытчика, что у купца одно присловье — как бы не сглазить. Ломоносову это ведомо. Но Федор Иванович свою осторожку объясняет иначе: — Обнищал народишко-то. Война. Ране, бывало, купчихе плетенюху свежья купить, что пряник обливной. Да што там одну! Иные и бураками бирывали. А солонины-то скоко шло, Осподи! Бочками брали. Пошевни под гнетом прогибались, битюгу не скрянуть было. А ноне? — Пятухин делает паузу. — Ноне ейна кухарка на рыбный двор с туеском, с малой палагушкой идет. Вот и смекай, Михайлушка, кака теперича негоция.
— Война-а, — супится Ломоносов и переводит на прежнее: — Вот мазурики-то откуль взялись. Голодно стало.
— Четвертый год уж…
— Четвертый, говоришь? А и впрямь четвертый. Выходит, я про свои баталии запамятовал… О пятом годе было. На фабрике-то.
— А как там у тебя, Михайлушка? На стекольной-то?.. Товар идет?
— A-а, Федор Иванович, не трави.
— Пошто, батюшка?
— Усть-Рудица моя готова всю Европу стеклярусом завалить, а не берут. — Михайла Васильевич так разводит плечом, ровно руль поперек волны воротит. — Я везде тереблю — и в Мануфактур-конторе, и в Академии, и своим студиозам — свое, росское надо творить, своим умом жить, на свой лад поворачивать. Держава-то наша вон коль велика! Кому ж ее обустраивать, как не нам, природным русским!
— Ну да, — кивает гость, — а то привыкли обутку на немецку колодку тачать.
Михайла Васильевич вскидывает брови: земляк чего-то не понял. Однако Пятухин и глазом не ведет.
— У нас-то нога поширше будет, — продолжает он. — Где-ка у них там, в Европах, повернуться? Там и ходить-то негде. Не то что у нас по Расее.
Лицо хозяина озаряется: все понял земляк, и понял правильно. И от этого сердечного отклика вроде как легче становится на душе и не столь беспросветными кажутся хозяйственные да коммерческие заботы.
— Стеклярус — товар знатный, — возвращается к начатому Ломоносов. — В ины годы спрос на пуды идет, а ныне — фунтами… Сулились из Москвы чохом купить, да какой-то немец перехватил. Скостил цену на полушку и перехватил. А мой лежит. Заделья много, а торга нет.
— А в лавке?
— А лавку не дали открыть. Писал в Мануфактур-контору, отбояриваются, шельмы. Там тоже немтыри, как и везде, своих двигают. И по лавкам они же сидят… Где тут русаку пробиться! А долг мой, — Ломоносов вздыхает, — тянут. Срок подошел, отдавать приспело.
В глазах Пятухина вопрос — ему что-то непонятно.
— Ссуду мне дали, — поясняет Ломоносов. — Когда фабрику строить зачинал. Возвращать надо.
— И много? — осведомляется земляк. В голосе готовность: ежели что, он подсобит, чай, не впервой. На что Михайла Васильевич благодарно улыбается и поджимает губы: нет, Феденька, тут семиком не обойдешься.
— Так скоко? — повторяет Федор Иванович.
— Четыре тыщи, — вздыхает Ломоносов.
— Четы-ы-ре тыщи?! — таращит глаза Пятухин. — Да-а, Михайлушка, тут я тебе не подсобник. Эких денег по всей нашей Куростровской волости, смекаю, не собрать… А отсрочить-то нельзя?
— Уже давали… — хмурится Ломоносов. — Прошел тот срок. Теперича вся надежа на мусию, — он показывает в угол, где мерцает образ. Это Спас Нерукотворный, выполненный в мозаике. — Есть прожект украсить Петропавловский собор. Коли даст Сенат денег — рассчитаюсь. А нет… хоть в долговую яму.
Ломоносов пристально взирает на своеделанный лик. Много изумруда, кармин… Но оттеняет все, конечно, эгольная смальта, особенно взор. Потому и говорят, что ликом Спас напоминает императора Петра.
Михайла Васильевич молча наливает померанцевой и молча же, кивнув заветному гостеньку, выпивает. Звенышко осетрины, что он медленно мусолит зубами, дает повод для продолжения молчания.
Прожект Сенат одобрил. Панорама Петровская принята. Но денег на мозаику пока не дали. А тут, ровно черная кошка, дорогу вдругорядь перебежал Сашка Сумароков. Да как! — статью поносную тиснул в своей «Трудолюбивой пчеле», пасечник хренов. Занимался бы оранжереей да песенки про пастушков аркадских сочинял. Так нет, туда же: мусия ему невпогляд, коробит, видишь ли, его просвещенный вкус. Да, картина масляная живее. Кто спорит? Но век картины какой? Краски блекнут. А мозаика — на века. Но им-то, недоброхотам, до сего дела нет. Главное — уязвить. Взгляд Михайлы Васильевича натыкается на фарфоровую чашечку, что стоит на пристенной кладке. Изящно выгнутая ручечка, тонкие обводы, благородная роспись. Эту чашечку преподнес ему на последнее тезоименитство Дмитрий Иванович Виноградов — тот самый Митенька, с коим они учились в Германии. Чашечка — изделие его собственных рук. Из домашнего сырья, на своей парцелинной фабрике Дмитрий Иванович наладил производство отечественного фарфора. Но вот же русская недоля! Едва появились первые образцы, как тут же отыскались всякие недоброхоты, кои принялись охаивать своеделанные новинки — и свои, вроде Сашки, и, само собой, иноземцы, почуявшие конкурента. Митрий — натура тонкая, впечатлительная, закалки поморской не получил, да и здоровьем Бог не отметил. Но доконали, подточили его силы те самые пасквилянты да наветчики. Это они свели Виноградова в могилу, даже сорока лет не разменял…