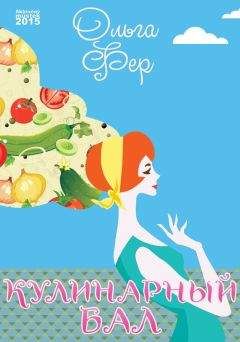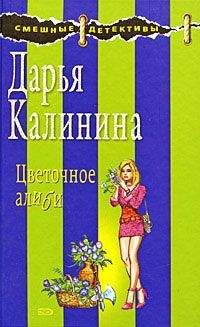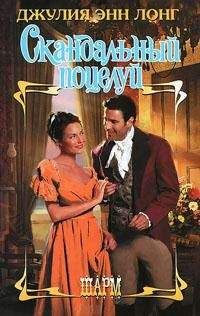Валерий Кормилицын - Разомкнутый круг
– Словно сына родного встретил, – шепнул Оболенскому Максим.
– Говорить будете, когда прикажу! – взвился Вебер. – С кавалергардами драться вздумали? Да у меня там дядя служит… Ответите, господа юнкера, за все ответите!
– …И богохульничал при этом, – осенял себя крестным знамением будочник, теребя за рукав полицейского офицера и радостно улыбаясь.
Дядьки, вытянувшись во фрунт, стояли затаив дыхание.
«Как бы по носу не врезал! – волновался Шалфеев. – Ишь немчура, кулаками как развертелся…» – преданно при этом ел глазами начальство.
Полицейский, разглядывая прохиндейскую рожу Антипа, прокручивал в уме описания разыскиваемых душегубов. «Вот черт! Под все подходит!..» – волновался он.
Егор, мечтательно глядя на диван, боролся со сном. «Эва диво какое, с писаришками кавалергардскими поцапались…»
– Да ладно, с кавалергардами, – вставил слово приезжий офицер, будто прочел его мысли, – но будочниками-то зачем стучать?! А еще из хороших фамилий… – с упреком посмотрел на юнкеров.
– Мою фамилию тоже весь квартал уважает, – начал хвалиться будочник, – мы, Чипиги, давно по будкам сидим: мой папаня сидел, и дядька сидел, теперь я вот хорошо сижу…
Даже Вебер замолчал.
– Ну что ж, – поднялся полицейский, – пора домой возвращаться. Надеюсь, о принятых мерах сообщите куда следует? До самого Аракчеева сие безобразие дошло…
– В Сибирь захотели!– орал Вебер. – С этого года не Вязьмитинов министр, а Алексей Андреевич Аракчеев. Забыли?!
Ну что ж, до особого распоряжения его превосходительства полковника Арсеньева посидите на гауптвахте, а там как Михаило Андреевич велит…
На юнкерское счастье, заместитель командира лейб-гвардии Конного полка приехал в Стрельну не один, а с Петром Голицыным. Князь решил навестить своего протеже и воспитанника.
– Молодцы! Ей-богу молодцы гвардейцы, – похвалил Голицын юнкеров, – за честь полка вступились. А кавалергарды зазнались, ежели даже их писаришки в князей огурцами кидают…
Михаил Андреевич хмурился и теребил себя за бакенбарду. Юнкера встали во фрунт и с удовольствием слушали гусарского ротмистра. «А ведь и правда, – раздумывал полковник, – куда это годится, коли рядовые писаря на юнкеров кидаться начнут? На этих совсем еще детей… а вдруг бы повредили им чего?.. Хотя бы тому же Нарышкину… – быстро взглянул на красивое, по-девичьи нежное лицо графа. – Да московская и петербургская родня такой бы шум подняли!.. К тому же государь не равнодушен к его родственнице…»
– А квартальные с будочниками чего учудили?.. Вместо того чтобы два десятка кавалергардов приструнить, на бедных несчастных мальчишек накинулись… – обращаясь к полковнику, незаметно подмигнул Рубанову ротмистр.
– У них с головой всегда безнадежно… – высказался полковник, наконец оставив в покое бакенбард.
– Не скажите, Михайло Андреевич, как раз тут-то они правильно смекнули, – развивал мысль Голицын. – Кого легче схватить и доложить по начальству о бдительности?.. Два десятка здоровенных мужиков или трех нежных отроков?
– Конногвардейцев так просто не возьмешь! – гордо выпятил грудь полковник. – Доложу великому князю Константину, что любой квартальный норовит его гвардейца обидеть да еще в холодную упечь!.. Вебер!!! – обернувшись к двери, рявкнул он.
Поручик предстал, словно чертик из табакерки.
– Ну, эти дубоголовые к юнкерам цепляются… ладно! А вы-то чего? За что детей на гауптвахту посадили, а? За то, что они честь полка сберегли?! Советую у них поучиться, как следует за честь конногвардейского мундира стоять!
Серые глаза Голицына лучились лукавством…
Вахмистр, по приказу Вебера, дал юнкерам кавалерийский штуцер и велел дядькам научить молодежь палить из него.
– Оружие почти свеженькое, образца 1803 года, с закрытыми глазами должны в цель попадать, – изрек он.
Стрельба из этого штуцера стала самым любимым развлечением юнкеров. Кроме стрельбы, они сражались на шпагах. Максим показал коронный отцовский удар, и юнкера с увлечением отрабатывали его. Особенно старательно занимался Нарышкин. В наряды и дежурства Вебер после приезда полковника и Голицына их не ставил, но зато еженедельно, каждую пятницу проверял знания уставов и отводил свою немецкую душу на бедном Оболенском, голова которого не воспринимала злосчастные параграфы и пункты.
– Все понимаю!..– жаловался он друзьям. – А словами мысль не выражу, у меня и с французским такая же история случилась – измучил несчастного месье. Правда, по-нашему он мекал, как я по-ихнему, но у него хоть отговорка была – варварский язык, мол.
– И чем дело кончилось, выучил? – спросил Нарышкин по-французски.
– Ои! Ои![8] – выбросил французика в окно…
– И что папà? – заинтересованно допытывался граф.
– Стекло очень жалел… Венецианское! А мамà за клумбу переживала… Ее любимую розу французская задница смяла. Отправили гувернера в Париж, правда, заплатили щедро, и нежные ручки молоденькой прислуги до вечера выковыривали из, пардон, французской задницы колючки.
– Да ладно! – сказал Нарышкин.
Князь заулыбался от приятных воспоминаний.
– Видели бы вы, господа, как он летел… ах, как славно летел французишка, – все не мог он успокоиться. – И почему мы при Аустерлице проиграли? – неожиданно перевел разговор на военную тему.
– Видимо, потому что вы, господин юнкер, в боях не участвовали, – съязвил Нарышкин.
– Молодец! – похвалил его Максим. – Становитесь суровым и задиристым, как истинный конногвардеец.
– Вот как вызову на дуэль! – обиделся Оболенский. – Обоих…
– …И вам не придется войны с Наполеоном бояться! – облек словами его мысль Максим.
– Гы-гы-гы! – зашелся смехом князь.
По вечерам, когда спадала жара и в открытые окна вливался свежий душистый воздух, купчиха устраивала танцы, на которые посторонних, разумеется, не приглашала.
Живущий через дорогу дедушка, разбуженный среди ночи игрой на клавикордах, смехом и топотом, от возмущения долго не мог попасть струей в горшок. «Заставить бы вас подтирать за мной! – мечтал он, сощурив один глаз для точности прицела. – Тогда бы, поди, спали по ночам…»
Как Оболенскому с трудом давался устав, Нарышкину – стрельба и фехтование, таким камнем преткновения для Рубанова являлись танцы. Но он старательно учился, несмотря на страдальческие лица приглашаемых им сестер. Через несколько вечеров они наотрез отказались танцевать с ним.
– У нас уже ноги распухли, – жаловались дамы.
И лишь их мать, мужественная женщина, продолжала давать уроки мастерства. Но в долгу она не оставалась, и на следующий день, вставляя ногу в стремя, Максим морщился от боли в ступне.
Огромный Оболенский, не говоря уж о Нарышкине, танцевал легко и свободно и вальс, и мазурку, но любимым танцем, приводящим в восторг необузданную его душу, был, конечно, котильон… в стиле а-ля Оболенский! Так князь называл популярную в Европе фарандолу. Левой лапищей он тащил за собой купчиху, она – Максима, тот – одну из дочерей, замыкал шествие Нарышкин. Князь заставлял их скакать через табурет, прыгать по дивану, водил из комнаты в комнату, стуча ботфортами и дико при этом вопя, часто в ажиотаже хватал штуцер, выводил команду во двор, и апофеозом всему был громкий выстрел, от которого соседский дедушка упускал в перину … Марфа в такие вечера уходила ночевать к родственникам, то есть дома практически не бывала…
Поручика Вебера потрясли не творившиеся беспорядки, а то, что юнкера сумели приручить эту взрывоопасную купчиху с ее дочками. «Даже свою скобяную лавку забросила, – недоумевал Вебер, – все дома, сидит… Как говорят русские, медом ей чего-то там помазали, что ли?..» Но принимать решительные меры он теперь опасался.
В конце июля полк начал готовиться к походу в Красное Село, где после недельной подготовки предстояло провести перед царем двусторонний маневр. За день до марша в Стрельну прибыл отдохнувший и посвежевший ротмистр Вайцман. Отпуск у него еще не закончился, но принять участие в сборе всей гвардии он посчитал своей обязанностью – а вдруг его заметит и отличит сам государь-император?!
С новыми силами и отдохнувшей глоткой Вайцман рьяно взялся за наведение порядка и дисциплины. Рядовые конногвардейцы чистили мелом кресты и медали, у кого они имелись; доводили до жаркого блеска пуговицы колетов, ваксили сапоги, полировали шомполом шпоры, чтобы стали точно серебряные, брились и фабрили усы и бакенбарды.
Купчиха ревела белугой, размазывая по лицу обильные слезы и вздрагивая всем своим необъятным телом. Не уступали ей и дочки, без конца обнимавшие юнкеров и мешавшие им паковать вещи. Громкие рыдания звучали сладкой музыкой в волосатых ушах соседского дедушки. Чтобы лучше слышать и наслаждаться каждым всхлипом, он сдернул с лысой головы колпак и, держа на коленях пустой горшок, временами выбивал по его днищу победный марш Преображенского полка…